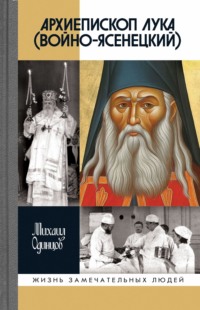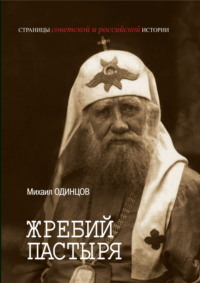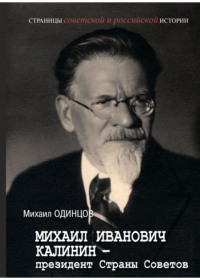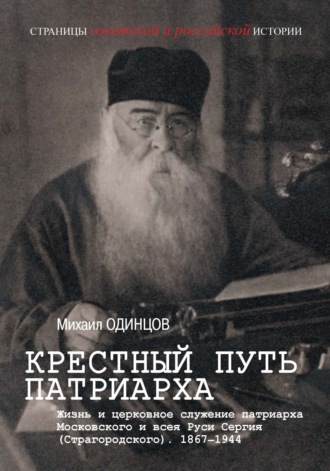
Полная версия
Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

К. П. Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода в 1880–1905
1880-е
[Из открытых источников]
Началась академическая жизнь: лекции, занятия в библиотеке, курсовые и семестровые сочинения, службы в академической церкви, подготовительные домашние занятия, экзамены.
Внутренняя жизнь Академии выстраивалась по Уставу, принятому в 1884 г. и, конечно, несшему на себе последствия первомартовского покушения (1881) на Александра II, поскольку охранительным изменениям подверглись все аспекты внутренней и внешней политики России. Главным двигателем и заправителем преобразований прежнего (1869) Академического устава был тогдашний относительно недавно назначенный (1880) обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев. Он стремился вернуть академическую жизнь к эпохе начала XIX столетия. В результате «свобод» в академической жизни становилось все меньше: например, Совет академии был низведен на степень как бы совещательного при ректоре органа; тогда как расширившиеся права и возможности ректора делали его власть «всеведущей», распространявшейся на все и вся в пределах Академии.
Лекции начинались с 9 часов утра и продолжались до 1 3/4 часа дня и затем от 3 до 4 часов. Читалась каждая лекция один час с четвертью. На младшем курсе преподавались логика, психология, история философии, словесность, гражданская история общая, гражданская история русская, математика, физика, а из богословских предметов – Св. Писание и патристика. Из языков – греческий, латинский, немецкий, французский – обязательные для всех студентов и английский – необязательный. Вскоре «академики» уразумели плюсы и минусы учебной жизни, где главным были успехи в деле сочинения множества письменных работ, включая и подготовку самостоятельных проповедей. Они «поднимали» или «опускали» студента по шкале успеваемости. А потому студенты посещали лишь лекции любимых и интересных для них преподавателей. У других или сидели в классе, занимаясь в это время чем попало, или скрывались в так называемых катакомбах – хлебопекарне и иных подобных местах, куда инспектор, проверяя наполняемость классов, почти не заглядывал. Отчет в усвоении лекционного курса студенты давали на экзаменах два раза в год – рождественских и перед летними каникулами. Экзамены велись так же, как в семинариях, т. е. спрашивали не каждого студента по каждому предмету, а одного – по одному, следующего – по другому. Но эти ответы не особенно ценились, главными были сочинения, не менее четырех за год!
Каждый день, кроме канунов и утра праздников, полагались вечерние и утренние молитвы, которые совершались в академическом храме, с обязательным на них присутствием всех студентов и инспектора или его помощника. Посещение богослужений в воскресные и праздничные дни так же было обязательно для всех студентов, причем они должны были стоять рядами, студенты старшего курса – на правой стороне, младшего – на левой. Даже в столовую они должны были идти попарно, не ранее звонка и прибытия помощника инспектора, который ходил по столовой в течение всего обеда и ужина, наблюдая за порядком. Утром, после молитвы, в 8 часов, и вечером в 4 часа полагался чай с сахаром и булкой.
Покидать Академию и уходить в город можно было только два раза в неделю – в воскресенье и четверг. Причем каждый уходящий обязан был записываться в особую книгу с указанием зачем и куда намерен отправиться. По возвращении из города студенты со своими отпускными билетами должны были являться к инспектору, к 9 часам вечера. В 11 часов запирались все комнаты, кроме спален. Правда, такие строгости царили преимущественно на младших курсах. По мере «роста» порядкового номера курса исчезали и сложности академической жизни. На старшем курсе преподавались догматическое богословие, нравственное богословие, обличительное богословие, история и обличение русского раскола, церковная история древняя, церковная история новая, русская церковная история, литургика, церковное законоведение, гомилетика, греческий язык, еврейский и новые языки.
Ивану Страгородскому, как и всем тогдашним студентам, повезло с инспектором и ректором Академии, которым в 1885–1892 гг. был архимандрит, а с 1887 г. епископ Антоний (Вадковский). В его времена студенты активно «пошли в народ», положив начало устройству внебогослужебных собеседований от «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» на рабочих окраинах столицы. Ректор, стремясь быть ближе к своим ученикам, завел богословские собеседования в своей квартире, приглашая не только студентов, но и преподавателей.
В то время учебный план Академии включал предметы двух отделений – исторического и литературного. Студент Страгородский взял для изучения предметы исторического отделения, дополнительно записавшись на курсы иностранных языков: английского, немецкого и древнееврейского. Обладая хорошим голосом, почти ежедневно участвовал в богослужении в академическом храме. Для самообразования студент Страгородский занялся изучением текста и толкования Священного Писания и святоотеческой литературы. Очень скоро Иван стал выделяться среди студентов своими незаурядными познаниями, его курсовые сочинения отличались глубиной мысли и эрудицией. Светские удовольствия, которым отдавали дань многие его товарищи, Страгородского не интересовали, зато он неизменно присутствовал на ежедневных академических богослужениях.
Один из сокурсников Ивана Страгородского, в последующем архиепископ Варфоломей (Городцев) вспоминал:
«Действительно яркой звездой… курса был Страгородский Иван Николаевич… Он с первых же дней заявил себя внимательным отношением к так называемым семестровым сочинениям, вдумчиво прочитывал нужные книги, для чего посещал Публичную библиотеку, слушал лекции и на экзаменах давал блестящие ответы… Еще на третьем курсе он начал усердно изучать творения святых отцов Церкви и знакомиться с мистической литературой… Под влиянием отеческой и аскетической литературы в сердце Ивана Николаевича стало зреть и крепнуть желание принять монашество, и он еще студентом решил поехать в Валаамский монастырь, чтобы опытно изведать подвижническую жизнь иноков этого строгого по уставу монастыря… Он… очень любил творения Тихона Задонского, Феофана Затворника… В беседах он и меня звал в монашество: “Оставь, – говорил он, – мертвым погребать своих мертвецов”»[24].
При переходе на второй курс студент Иван Страгородский в разрядном списке академического курса занимал 14-е место, на третий – второе; на четвертый – третье.

Остров Валаам
1890-е
[Из открытых источников]
Летом 1889 г., перед последним четвертым курсом, Иван Страгородский со своим однокашником Яковом Ивановым отправились на богомолье на Валаам. Пробыли они там все летние каникулы. Иван работал в монастырской канцелярии, а Яков занимался всякого рода физической работой в монастырском хозяйстве. Там к ним обоим и пришло решение принять монашество. Свою роль в этом сыграли и настойчивые призывы академического инспектора архимандрита Антония (Храповицкого) к студентам воспринять монашеский сан, чтобы послужить всей жизнью своею Церкви. К слову сказать, учеником архимандрита Антония был и Василий Беллавин – будущий патриарх Московский, учившийся несколькими курсами старше Ивана Страгородского. Мы не знаем, насколько они были знакомы, но можно предполагать, что пути их в Академии пересекались, как будут пересекаться они и в будущем. Студент Страгородский привлекал архимандрита Антония своими блестящими способностями, благостностью и чисто православным пониманием богословия. О характере складывавшихся между ними отношений можно судить по подарку, который Сергий сделал после окончания Академии своему учителю и другу. Он подарил ему панагию с изображением Владимирской Божьей Матери, на которой была сделана надпись: «Дорогому учителю и другу. Дадите от елея вашего, яко светильницы наши угасают» (Мф. 25, 8).

Санкт-Петербургская духовная академия
Начало XX в.
[Из открытых источников]
Решение Ивана и Якова потрясло товарищей по Академии. Терять двух самых любимых членов молодого кружка, сложившегося за три года совместной жизни, было нелегко. Тем более что оба они должны были оставить привычную академическую жизнь, покинуть свои комнаты и своих друзей и перейти в новое окружение академических иноков. Товарищи взволновались, были попытки убедить, отговорить, были и горячие дискуссии, но желаемых результатов они не дали. Тогда решили написать отцу Ивана Страгородского, чтобы с его помощью отговорить сына от монашеского выбора. Протоиерей Николай Страгородский специально приезжал в столицу, говорил с сыном о его решении и в конце концов дал свое благословение на этот шаг.
30 января 1890 г., в День памяти Трех Святителей, в академической церкви совершался обряд пострижения двух студентов четвертого курса Академии Ивана Николаевича Страгородского и Якова Федоровича Иванова. Медленно шествовали юноши, босые, в длинных белых рубахах под черными мантиями, в сопровождении монахов. При пении стихиры «Объятия Отча тверзти ми потщися», с частыми остановками и коленопреклонениями процессия прошествовала в академический храм. На солее их встретил ректор Академии епископ Выборгский Антоний (Вадковский) вопросом:
– Что пришли есте братия?
И доносятся едва слышные ответы:
– Желая жития постнического.
Затем последовали обычные при пострижении вопросы о монашеских обетах и смиренные ответы постригаемых: «Ей Богу содействующу», закончившиеся троекратным предложением епископа Антония подать ему ножницы для пострижения.
И… кульминация – пострижение. Нет более Ивана Страгородского. Есть инок Сергий, взявший себе это имя в честь одного из чудотворцев Валаамской обители. Его товарищ взял имя другого валаамского чудотворца – Германа.

Антоний (Вадковский), епископ Выборгский, ректор Духовной академии
[Из открытых источников]
Напутственное слово сказал епископ Выборгский Антоний (Вадковский), указав новопостриженникам на смирение как на венец нравственного совершенства. Здесь же присутствовали епископ Смоленский и Дорогобужский Гурий (Охотин) и управляющий Синодальной канцелярией В. К. Саблер.
В сборнике статей и материалов, посвященном Сергию Страгородскому, выпущенном Московской патриархией еще в 1947 г., опубликованы некоторые воспоминания однокурсников Сергия об этом периоде его жизни. Один из них, в будущем архиепископ Новосибирский Варфоломей (Городцев) писал: «Скоро молодой инок Сергий был рукоположен во иеродиакона и стал служить в академической церкви: служба молодого иеродиакона своим глубоким воодушевлением производила на всех присутствующих в церкви большое впечатление. И я вот сейчас помню, как молодой иеродиакон после принятия Святых Таин, полный умиления, держа в руках святой потир, возглашал: “Со страхом Божиим и верою приступите”. Помню его прекрасное, всегда осмысленное чтение Святого Евангелия, а особенно помню то особое впечатление, которое производило на меня чтение им Святого Евангелия в Великий вторник»[25].

Архимандрит Антоний (Храповицкий) (в центре) с иеромонахом Сергием (Страгородским) и студентами Академии
[Из открытых источников]
После пострижения Сергий поселился в отдельной комнате, подальше от студенческого шума. В тихой монашеской обстановке, под руководством инспектора Академии архимандрита Антония (Храповицкого) прошли последние полгода учебы. Они были посвящены работе над кандидатской диссертацией на тему «Православное учение о вере и добрых делах». Сама тема уже достаточно наглядно свидетельствовала о богословской зрелости автора и его умонастроении. Для исследования был взят один из самых трудных вопросов христианской догматики и учения о нравственности. С одной стороны, он стремился критически осмыслить позицию Римско-католической церкви, согласно которой для оправдания человека перед Богом требовалось наличие добрых дел, а недостаток их мог быть восполнен из запаса сверхдолжных заслуг святых; с другой – анализировал протестантскую этику, которая ставила спасение человека в зависимость только от его веры во Христа, полагая, что добрые дела, как бы ни были они значительны, не спасут человека, и только праведность Христа покроет грешника как ризою. Православное нравственное богословие, возражая и католицизму, и протестантизму, стремилось утвердить собственное видение этой проблемы, сформулировать точно и ясно взаимоотношение между верой и добрыми делами. Этой же цели придерживался и иеромонах Сергий.

Академический домовый храм
Конец XIX в.
[Из открытых источников]
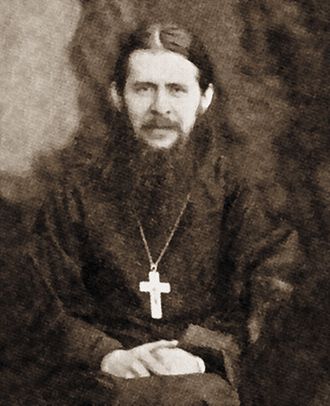
Сергий Страгородский, иеромонах
1890
[Из открытых источников]
На последнем курсе Сергий близко сошелся со своим научным руководителем профессором А. Л. Катанским[26]. Конечно, кроме единства взглядов на тему богословского исследования их связывало и «нижегородское» родство. Обсуждая постепенно обретавшую форму и содержание кандидатскую работу или в классной комнате Академии, или в домашнем кабинете профессора, они находили время пообщаться о родной Нижегородчине, учебе в общей для них Нижегородской семинарии. Как-то в один из таких дней Сергий поинтересовался:
– Кто же Вам запомнился из земляков-семинаристов?
– Могу припомнить печально известного Н. А. Добролюбова, выходца из священнической семьи.
– Что ж и в семинарии он был бунтарем?
– Нет-нет, в то время он поражал нас своим видом очень благовоспитанного юноши, скромного, изящного, всегда хорошо одетого, с нежным, симпатичным лицом. В семинарии ходили слухи о большой его даровитости и необыкновенном трудолюбии. Рассказывали, что он писал огромные сочинения на задаваемые темы, просиживал за ними целые ночи. Его родители отбирали у него даже свечи для прекращения его ночных занятий. Учился он в богословском классе семинарии и был первым по списку.
– А после семинарии Вы его видели?
– Не могли мы с ним встречаться. Я – в Академии, он – в литературных салонах…
– Говорят, он рано умер и его могила где-то в Петербурге?
– Это так… и я там даже был. Правда, только один раз.
Недоумение читалось на лице Сергия. Профессор уловил немой вопрос и продолжил:
– Был ноябрь 1861 г. …Похороны почившего Добролюбова намечались на Волковом кладбище. Мы, трое студентов, знавшие его по семинарии, посчитали необходимым как его земляки присутствовать на похоронах. Не скрою, было и простое любопытство: увидеть тогдашних литературных кумиров. В тайне от всех (был обычный учебный день) рано утром отправились на кладбище. Видим печальную процессию, человек тридцать-сорок. Почему-то большинство из них в очках, очень небогато и неряшливо одеты. Гроб внесли в церковь… и вся эта литературная братия приняла самые непринужденные позы, многие встали спинами к иконам и алтарю, о чем-то разговаривали. Приготовившийся начать литургию священник даже вышел из алтаря и в энергических выражениях попросил присутствующих вести себя приличнее в храме.
– Так что, они злокозненные безбожники?
– Так говорили и думали многие… Но я твердо не знаю. Хотя, как я заметил, ни один из литераторов ни разу не перекрестился в течение литургии и отпевания… Когда гроб вынесли и опустили в могилу, известный тогда поэт Н. А. Некрасов продекламировал хриплым и каким-то глухим и сиплым голосом известное предсмертное стихотворение покойного: «Милый друг, я умираю». Затем выступил приобретший тогда популярность публицист Н. Г. Чернышевский. С очень желчным лицом, с визгливым голосом, неприятно действующим на нервы. Он прочитал отрывки из дневника покойного, присоединяя к прочитанным местам свои комментарии, пропитанные такою же желчью, как и его лицо. Все завершилось коротенькой речью какого-то студента-медика…
Помолчав, Катанский завершил свой рассказ: «Как жаль, что столь неординарный по способностям и уму человек, растратил жизнь на пустяки, не свершив ничего достойного для церкви и Отечества»[27].

Надгробие на могиле Н. А. Добролюбова Санкт-Петербург, Волково кладбище
[Из открытых источников]
9 мая 1890 г. иеромонах Сергий блестяще завершил свое богословское образование. И рецензенты, и оппоненты, и его руководитель сошлись во мнении, что диссертационная работа стала плодом долгих самостоятельных размышлений и искренним выражением сложившегося у автора взгляда на разбираемый им вопрос, что в ней проявилась редкая для студентов начитанность в святоотеческой литературе.
Всего академический курс в 1890 г. окончили 70 человек. Свыше двух третей из них в будущем примут священнический сан, а восемь станут епископами, и все они с честью и усердием послужат церкви. В субботу, 9 июня, Совет академии утвердил список из 47 кандидатов-магистрантов, среди которых первое место занял иеромонах Сергий.
По традиции завершающим моментом торжества по поводу окончания учебы был совместный товарищеский обед выпускников. На этих обедах могли присутствовать все окончившие Академию в предыдущих выпусках, правда, за исключением выпускников, достигших архиерейского сана. В этот раз среди гостей старейшим был редактор «Церковно-общественного вестника» А. И. Поповицкий, а самым знатным – духовник царской семьи протопресвитер придворного духовенства И. Л. Янышев.
По действовавшему академическому уставу Сергий Страгородский мог остаться при Академии в качестве стипендиата для защиты магистерской диссертации и подготовки к профессорскому званию. Перед молодым монахом открывалась блестящая перспектива ученой карьеры. Но он избрал иное – миссионерское служение. 11 июня им было подано прошение на имя ректора Академии епископа Антония с просьбой отправить на службу в состав Японской православной миссии. Без промедления, 13 июня, последовал указ Святейшего синода о его назначении. 15 июня указ поступил в Академию «для зависящих распоряжений». Оставалось немногое: получить золотой наперсный крест, полагавшийся по характеру новой церковной службы, заграничный паспорт, подъемные и прогонные деньги.
Предполагая долгую разлуку с близкими, Сергий съездил на родину, в Арзамас. В родном городе он посетил в монастырской больнице свою няню Анну Трофимовну, которая в тот раз болела и с которой он простился по-родственному. Больше Сергий ее никогда не увидит. Не забыл он и своей родной Академии, где только что было организовано Общество вспомоществования бедным студентам, в адрес которого он отправил свой первый взнос – 200 рублей.
Теперь молодой иеромонах Сергий Страгородский был готов к началу своего миссионерского служения.
Зададимся вопросом: почему именно Японию выбрал иеромонах Сергий Страгородский? Думается, что ответ находится в плоскости масштабных изменений, которые с конца 1860-х гг. переживала Япония в т. н. период просвещенного правления императора Муцухито, объявившего о масштабных реформах во всех сферах государственной и общественной жизни. О преобразованиях в стране, закрытой для европейцев на протяжении многих веков, писала вся мировая пресса, в том числе и российская, возбуждая любопытство и интерес. Европейскую и мировую общественность удивляла способность японцев усвоить иностранный опыт и знания для развития своей страны, превращения ее в современную индустриальную великую державу.
В начале 1860-х гг. японцы смотрели на иностранцев как на «зверей», а на христианство как на «зловредную секту», к которой могут принадлежать только отъявленные «злодеи и чародеи». С «открытием страны» в нее хлынул поток католических и протестантских миссионеров, ставивших перед собой амбициозную цель – быструю христианизацию страны.
Имела возможность действовать в Японии и Православная миссия. К 1889 г. она насчитывала 17 614 христиан-японцев, 24 священнослужителя, из них только четверо русских, 125 проповедников. Издавался православный журнал «Церковный вестник».
Наверное, Сергию хотелось стать соучастником миссионерского делания Российской православной церкви, быть причастным к делу христианизации целого народа, когда казалось, что на Земле больше нет уголков, где бы не было известно о миссии Христа.
Глава 2
На миссионерском и педагогическом поприще. 1890–1905
Японская духовная миссия… посольская церковь в Афинах (Греция)
Для миссионера Сергия Страгородского путь в Японию начинался в Арзамасе. К концу дня в экипаже он добрался до Нижнего Новгорода и… на вокзал. Паровоз уже стоял под парами и казалось только и ждал Сергия с его бесчисленными чемоданами, баулами, коробками и коробочками. Объявлена «пятиминутная готовность» и вот гудок, и в путь!
Прибыв в Москву, Сергий свершил пару давно намечавшихся паломнических выездов – в Звенигород, с его Саввино-Сторожевским монастырем и Успенским собором на Городке; затем – в Новый Иерусалим, в Воскресенский монастырь!
И вновь вагон, и вновь дорога, и новая остановка – Киев – мать городов русских! Последняя служба на Успенье в России в лаврском храме! 17 августа, в 9 утра поезд прибыл на конечную станцию – Одесса. Три дня бесконечной суеты: получить багаж, запастись св. миро и св. дарами, собрать воедино церковные облачения, антиминсы и прочие необходимые вещи как для церковного служения на корабле, так и на новом месте служения. А еще надо было посетить множество присутственных и неприсутственных мест, где получить справки, разрешения, документы!

Звенигород. Успенский собор на Городке
Начало XX в.
[Из открытых источников]

Новоиерусалимский Воскресенский монастырь
Начало XX в.
[Из открытых источников]

Киево-Печерская лавра
Начало XX в.
[Из открытых источников]
20 августа пролетка привезла иеромонаха Сергия в одесский порт. На берегу уже суетилась плотная разноликая толпа, осаждая пароход. Разглядев название «Кострома», не размышляя и не оглядываясь по сторонам, по трапу взобрался на корабль и быстро проник в каюту: четыре кровати по две с каждой стороны друг над другом. Умывальник. Тумбочка на петлях. Тесное замкнутое пространство. Сложив свои вещи, вышел на палубу, чтобы подышать и оглядеться. Корабль представился огромным черным чудовищем о трех мачтах. С высоты верхней палубы, где и размещалось его временное жилище, глянул вниз: там по-прежнему шевелилась неуменьшающаяся в размере толпа желающих, как и он, оказаться на корабле. Над ней стоял стон: каждый считал своим долгом что-то кричать, кого-то призывать, кому-то и что-то разъяснить… Около пяти часов вечера был дан первый свисток. Спустя час еще один. Наконец третий свисток! Убраны сходни, отданы канаты и… прощай Россия! Пароход вздрогнул, запыхтел и медленно-медленно начал поворачиваться от берега. Толпа на берегу и толпа на палубе вместе с матросами начали кричать «ура!», махать шляпами, платками и просто руками. Тихим ходом спустя полчаса корабль вышел в море и встал на рейд. Пассажиры разбрелись по своим каютам, на палубе остались лишь молодые офицеры, только что выпущенные из школ и следовавшие в Восточную Сибирь к местам своей первой службы. Было небольшое число гражданских – только что испеченный доктор, едущий практиковать на Сахалин; туда же направлялся архитектор, а еще торговцы, журналисты и немногие путешествующие.

В 1888 г. судно было закуплено в Великобритании, в Ньюкасле, на верфи фирмы «Hawthorn R & W. Leslie & Со». Получило название «Кострома» и прибыло в Одессу, где было введено в эксплуатацию на линии Одесса – Владивосток: перевозились войска, грузы, пассажиры. В 1904 г. с началом Русско-японской войны переоборудовано под госпиталь на 200 коек. В мае 1905 г. корабль был захвачен японским крейсером «Садо-Мару», но спустя два месяца освобожден, вернулся во Владивосток, а затем в Одессу, снова вошел в состав Добровольного флота. Осенью 1913 г. во время очередного рейса на Дальний Восток был выброшен штормом на Карагинскую косу п-ва Камчатка, названную в дальнейшем «Костромская». Снять судно с отмели не успели, так как оно было разграблено японскими рыболовными бригадами. Остатки остова судна были переданы на строительство школы в с. Карага. Еще в 1998 г. при сильном отливе недалеко от берега можно было увидеть остатки механизмов судна.