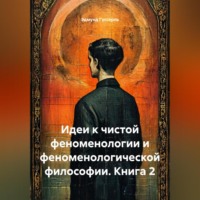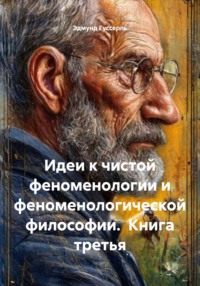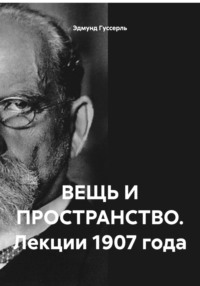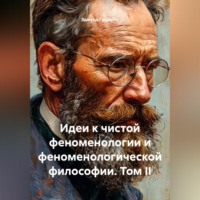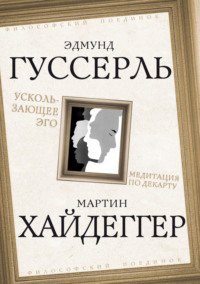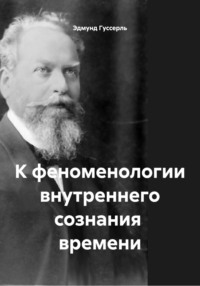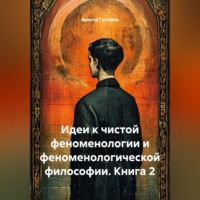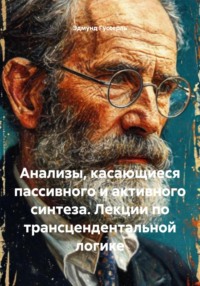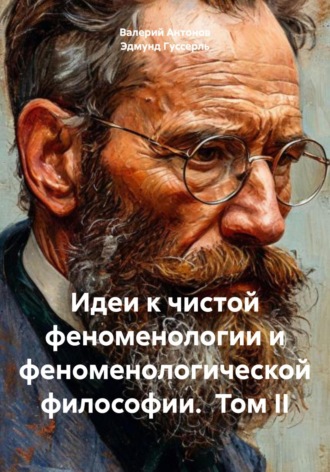
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1
Любая эйдетическая конкретизация и сингуляризация (particularization and singularization) эйдетически универсального предикативно сформированного комплекса дел, поскольку она такова, называется эйдетической необходимостью (eidetic necessity). Таким образом, эйдетическая универсальность (eidetic universality) и эйдетическая необходимость являются коррелятами.
Однако употребление слова «необходимость» варьируется в зависимости от взаимосвязанных корреляций: соответствующие суждения также называются необходимыми. Однако важно соблюдать различения и, прежде всего, не называть эйдетическую универсальность необходимостью (как это обычно делают).
Сознание необходимости (consciousness of a necessity), точнее, судящее сознание, в котором осознаётся предикативно сформированный комплекс дел как конкретизация эйдетической универсальности, называется аподиктическим сознанием (apodictic consciousness). Само суждение, утверждаемая пропозиция, называется аподиктическим (или аподиктически «необходимым») следствием (consequence) универсального суждения, с которым оно связано.
Приведённые утверждения о связи между универсальностью, необходимостью и аподиктичностью могут быть сформулированы в более общем виде, так чтобы они были применимы к любым, а не только к чисто эйдетическим сферам. Однако очевидно, что в рамках эйдетического ограничения они приобретают особый и крайне важный смысл.
Сочетание эйдетического суждения с полаганием фактического существования.Очень важным также является сочетание эйдетического суждения о любом индивидуальном объекте с полаганием (positing) фактического существования (factual existence) чего-то индивидуального.
– Эйдетическая универсальность переносится на индивидуальное, полагаемое как фактически существующее, или на неопределённо универсальную сферу индивидов (которая полагается как фактически существующая).
– Сюда относится, например, любое «применение» геометрических истин к случаям в природе (где природа полагается как действительная).
Предикативно сформированный комплекс тел, полагаемый как действительный, является фактом (matter of fact) постольку, поскольку он представляет собой индивидуальный предикативно сформированный комплекс действительности (individual predicatively formed actuality-complex). Однако он является эйдетической необходимостью постольку, поскольку представляет собой сингуляризацию эйдетической универсальности.
Различие между эйдетической и естественной универсальностью.Неограниченную универсальность законов природы (unrestricted universality of natural laws) нельзя путать с эйдетической универсальностью.
– Например, суждение «Все тела тяжелы» не полагает никакого определённого физического тела как фактически существующего в рамках тотальности природы. Однако оно не обладает безусловной универсальностью (unconditional universality) эйдетически универсальных пропозиций, потому что, согласно своему смыслу как закон природы, оно несёт с собой полагание фактического существования, а именно – самой природы, пространственно-временной действительности: «Все тела – в природе, все “действительные” тела – тяжелы».
– В отличие от этого, суждение «Все материальные вещи протяжённы» обладает эйдетической значимостью (eidetic validity) и может быть понято как чисто эйдетическая пропозиция, если полагание фактического существования, осуществляемое со стороны субъекта, вынесено за скобки (suspended). Оно утверждает нечто, основанное чисто в сущности (essence) материальной вещи и в сущности протяжённости, что мы можем постичь как имеющее «безусловную» универсальную значимость.
Это достигается посредством оригинарной данности (originary givenness) сущности материальной вещи (например, на основе свободной фантазии о материальной вещи), после чего в этом презентирующем сознании (presentive consciousness) выполняются шаги мышления, требуемые для «усмотрения» (insight) – оригинарной данности эйдетически предикативно сформированного комплекса дел, явно выраженного данной пропозицией.
То, что нечто действительное в пространстве соответствует таким истинам, – это не просто факт, а эйдетическая необходимость как конкретизация эйдетических законов. Лишь сама действительная вещь, к которой применяется данное суждение, является здесь фактом.
Объяснение сложных моментов и параллели с другими философами.1. Эйдетическое суждение vs. фактическое суждение
– У Гуссерля эйдетические суждения относятся к сущностям (essences), а не к эмпирическим фактам. Это напоминает априорные суждения у Канта, которые обладают необходимостью и строгой универсальностью.
– Пример: «Все материальные вещи протяжённы» – это эйдетическая истина, тогда как «Все тела тяжелы» – эмпирический закон природы.
2. Аподиктичность
– Термин «аподиктический» (apodictic) восходит к Аристотелю, обозначая суждения, которые не могут быть ложными (например, логические или математические истины).
– У Гуссерля аподиктическое сознание – это непосредственное усмотрение необходимости (аналог интеллектуальной интуиции у Декарта).
3. Феноменологическая редукция
– Идея «вынесения за скобки» (suspension) полагания существования связана с эпохе (ἐποχή) – методом феноменологической редукции, который позволяет сосредоточиться на чистой сущности явлений.
4. Эйдетическая необходимость vs. естественная необходимость
– Различение между эйдетической (сущностной) и фактической (эмпирической) необходимостью перекликается с гумасовским разделением «отношений идей» (relations of ideas) и «фактов» (matters of fact).
Важно: Этот параграф развивает ключевые идеи феноменологии, связывая их с классическими философскими проблемами универсальности, необходимости и данности сущностей.
§7. Науки о фактах и эйдетические наукиОснование для взаимосвязи между науками о фактах и эйдетическими науками заключается в эйдетической связи между индивидуальным объектом и сущностью: каждому индивидуальному объекту принадлежит его сущностная структура как его эйдос (сущность) – точно так же, как, наоборот, каждой сущности соответствуют возможные индивиды, которые были бы её фактическими единичными воплощениями.
Существуют чистые эйдетические науки, такие как чистая логика, чистая математика, чистые теории времени, пространства, движения и т. д. На каждом шаге своего мышления они свободны от любых полаганий фактов; иными словами, в них опыт (понимаемый как сознание, схватывающее или полагающее действительность, фактическое существование) не может служить основанием. Если опыт в них и функционирует, то не как опыт.
Геометр, рисующий фигуры на доске, создаёт тем самым фактически существующие линии на фактически существующей доске. Но его переживание этого продукта как переживание не обосновывает его геометрического усмотрения сущностей и эйдетического мышления в большей степени, чем его физическое действие. Поэтому не имеет значения, является ли его переживание галлюцинацией или же он просто воображает линии и конструкции в мире фантазии.
Совершенно иначе обстоит дело у естествоиспытателя. Он наблюдает и экспериментирует, то есть устанавливает фактическое существование на основе опыта; для него переживание – это обосновывающий акт, который никогда не может быть заменён простым воображением. Именно поэтому наука о фактах и эмпирическая наука – эквивалентные понятия.
Но для геометра, исследующего не действительности, а «идеальные возможности», не актуальные комплексы, а эйдетические комплексы, конечным обосновывающим актом является не опыт, а усмотрение сущностей.
Так обстоит дело во всех эйдетических науках. На основе эйдетических комплексов (или эйдетических аксиом), схваченных в непосредственном усмотрении, строятся опосредованные эйдетические комплексы, данные в мышлении с опосредованным усмотрением – мышлении, следующем принципам, которые сами являются объектами непосредственного усмотрения. Следовательно, каждый шаг в опосредованном обосновании аподиктически и эйдетически необходим.
Сущность чисто эйдетической науки состоит в том, чтобы двигаться исключительно эйдетическим путём: с самого начала и далее единственными значимыми комплексами являются те, что обладают эйдетической значимостью и потому могут быть либо непосредственно даны (как укоренённые в усмотренных сущностях), либо выведены из таких «аксиоматических» комплексов посредством чистой дедукции.
С этим связан практический идеал точной эйдетической науки, который, строго говоря, лишь современная математика реализовала в полной мере: она показала, как придать любой эйдетической науке высшую степень рациональности, сводя все её опосредованные шаги мышления к подведению под аксиомы конкретной эйдетической области – аксиомы, собранные раз и навсегда и дополненные всей системой аксиом формальной или чистой логики (в широком смысле – mathesis universalis), если, конечно, речь не идёт изначально о самой этой логике.
В этой связи возникает также идеал «математизации», который, как и только что охарактеризованный идеал, имеет огромное значение для познавательной практики всех «точных» эйдетических дисциплин, чей весь запас знаний (как, например, в геометрии) содержится в универсальности нескольких аксиом с чисто дедуктивной необходимостью. Однако здесь не место углубляться в это.
Разбор сложных моментов и философские параллели:1. Эйдетические науки vs. науки о фактах
– Эйдетические науки (например, математика) изучают сущности (эйдосы) – идеальные структуры, не зависящие от эмпирического мира.
– Науки о фактах (естествознание) исследуют фактическое существование, опираясь на опыт.
– Связь с Платоном: У Гуссерля «эйдос» восходит к платоновским идеям, но без их трансцендентности – сущности даны в феноменологическом усмотрении.
2. Усмотрение сущностей (Wesensschau)
– Это интеллектуальная интуиция, позволяющая схватить необходимое в явлении (например, геометрическую истину).
– Кант отрицал возможность такого усмотрения, считая, что мы познаём только явления. Гуссерль же, вслед за Брентано, возвращает интуиции значимость.
3. Роль воображения в эйдетике
– Для геометра неважно, рисует ли он фигуры или воображает их – важно содержание усмотрения.
– Сравнение с Декартом: Для Декарта воображение (например, «воск» в Размышлениях) помогает отвлечься от чувственного, но истина постигается чистым умом.
4. Аподиктичность и дедукция
– Эйдетические науки строятся на необходимых истинах (как у Спинозы в Этике, где всё выводится из аксиом).
– Формальная логика (mathesis universalis) – образец строгости, как у Лейбница с его идеей «универсальной характеристики».
5. Идеал математизации
– Гуссерль видит в математике парадигму научности, что перекликается с Галилеем, превратившим природу в «математическую книгу».
– Однако позднее (Кризис европейских наук) он критикует редукционизм, когда математизация подменяет жизненный мир.
Ключевые термины:– Эйдос (сущность) – инвариантная структура, схватываемая в усмотрении.
– Аподиктичность – безусловная необходимость (в отличие от проблематичного у Канта).
– Mathesis universalis – универсальная наука о формах, предвосхищающая аналитическую философию.
Важно: Гуссерль (Идеи I) закладывает основы феноменологического метода, противопоставляя его натурализму и психологизму.
§8. Отношения зависимости между науками о фактах и эйдетическими наукамиИз предыдущего ясно, что смысл эйдетической науки необходимо исключает любое включение познавательных результатов, полученных эмпирическими науками. Утверждения актуальности, присутствующие в непосредственных данных этих наук, очевидно, распространяются и на все их опосредованные выводы. Из фактов никогда не следует ничего, кроме фактов.
Однако, хотя каждая эйдетическая наука необходимо независима от любой науки о фактах, обратное, напротив, верно для последних. Не существует науки о фактах, которая, будучи полностью развитой как наука, могла бы быть свободной от эйдетических познаний и, следовательно, независимой от формальных или материальных эйдетических наук.
Во-первых, бесспорно, что эмпирическая наука, где бы она ни осуществляла опосредованное обоснование суждений, должна следовать формальным принципам, рассматриваемым формальной логикой. Поскольку, как и любая другая наука, эмпирическая наука направлена на объекты, она необходимо связана универсальными законами, принадлежащими сущности чего бы то ни было объективного. Тем самым она вступает в отношение с комплексом формально-онтологических дисциплин, которые, помимо формальной логики в узком смысле, охватывают другие дисциплины mathesis universalis (например, арифметику, чистый анализ, теорию множеств).
Во-вторых, любой факт включает в себя материальную сущностную структуру, и любая эйдетическая истина, относящаяся к чистым сущностям, входящим в эту структуру, должна давать закон, которому подчиняется данная фактическая единичность, как и любая другая возможная единичность.
Объяснение сложных моментов:1. Эйдетическая наука (от греч. *eidos* – «вид», «сущность») – у Гуссерля это наука, изучающая чистые сущности, а не фактические явления. Примеры: математика, формальная логика, феноменология.
2. Mathesis universalis – термин, восходящий к Лейбницу и Декарту, обозначающий универсальную математическую науку, охватывающую логику, арифметику, алгебру и теорию множеств. Гуссерль включает сюда формальную онтологию.
3. Формальная онтология – раздел феноменологии, изучающий априорные структуры бытия (например, часть и целое, причинность, зависимость).
4. "Из фактов никогда не следует ничего, кроме фактов" – отсылка к Юму, который утверждал, что эмпирические данные не могут дать необходимых (априорных) истин.
5. Зависимость эмпирических наук от эйдетических – Гуссерль развивает идею Канта о том, что любое научное знание требует априорных структур (категорий, логических форм).
6. "Любая фактическая единичность подчинена эйдетическому закону" – сходно с платоновской теорией идей: конкретные вещи причастны вечным сущностям.
Важно: Таким образом, Гуссерль обосновывает, что науки о фактах (естествознание, история и др.) зависят от эйдетических наук (логики, математики), но не наоборот.
§9. Регион и региональная эйдетикаЛюбая конкретная эмпирическая объективность находит свое место в рамках высшего материального рода – «региона» эмпирических объектов. Следовательно, чистому региональному эйдосу соответствует региональная эйдетическая наука или, как мы можем также сказать, региональная онтология. При этом мы предполагаем, что региональный эйдос (или различные роды, его составляющие) служат основой для столь обширных и разветвленных познаний, что в отношении их систематической экспликации действительно уместно говорить о науке или даже о целом комплексе онтологических дисциплин, соответствующих отдельным родовым компонентам региона. В дальнейшем мы сможем в полной мере убедиться, насколько это предположение соответствует действительности.
Согласно сказанному, любая эмпирическая наука, относящаяся к сфере региона, будет находиться в сущностной связи не только с формальными, но и с региональными онтологическими дисциплинами. Мы можем выразить это и так: любая наука о фактах (любая опытная наука) имеет сущностные теоретические основания в эйдетических онтологиях. Ведь (если сделанное предположение верно) совершенно очевидно, что обширный запас познаний, относящихся чистым и безусловно общезначимым образом ко всем возможным объектам региона – поскольку эти познания частично принадлежат пустой форме объективности вообще, а частично региональному Эйдосу, который, так сказать, выражает необходимую материальную форму всех объектов региона – не может не иметь значения для исследования эмпирических фактов.
Таким образом, например, всем дисциплинам, входящим в естествознание, соответствует эйдетическая наука о природе вообще (онтология природы), поскольку фактической природе соответствует Эйдос, который можно постичь чисто, – «сущность» природы вообще, включающая бесконечное множество предикативно оформленных эйдетических комплексов. Если мы сформируем идеал вполне рационализированной опытной науки о природе, то есть такой, которая в своей теоретизации продвинулась настолько, что каждое частное положение в ней выводится из наиболее универсальных и сущностных оснований, то станет ясно, что реализация этого идеала существенно зависит от разработки соответствующих эйдетических наук. Иными словами, она зависит не только от разработки формальной mathesis (которая одинаковым образом соотносится со всеми науками вообще), но особенно от разработки тех дисциплин материальной онтологии, которые рационально-чистым (то есть эйдетическим) образом раскрывают сущность природы и, следовательно, сущности всех возможных видов природных объективностей как таковых. И очевидно, что это справедливо для любого другого региона.
Также и в отношении познавательной практики заранее можно ожидать, что чем ближе опытная наука подходит к «рациональному» уровню, уровню «точной», номологической науки – то есть чем в большей степени она опирается на развитые эйдетические дисциплины как на свои основания и использует их для своего (познавательного) обоснования – тем более масштабной и эффективной становится ее познавательно-практическая деятельность.
Это подтверждается развитием рациональных естественных наук, физических наук о природе. Их великая эпоха началась в Новое время именно тогда, когда геометрия (уже высокоразвитая в античности как чистая эйдетика, особенно в платоновской школе) внезапно была в грандиозном масштабе применена к методам физики. Люди осознали, что материальная вещь по своей сути есть res extensa (протяженная вещь), и потому геометрия является онтологической дисциплиной, относящейся к сущностному моменту материальности, а именно – к пространственной форме. Но, кроме того, они также поняли, что универсальная (в нашей терминологии – региональная) сущность материальной вещи простирается гораздо дальше. Это видно из того, что развитие шло одновременно по линии разработки новых дисциплин, координатных геометрии и призванных выполнять ту же функцию – рационализации эмпирического.
Из этой цели выросло великолепное развитие формальных и материальных математических наук. С страстным рвением они разрабатывались или заново создавались как чисто «рациональные» науки (то есть как эйдетические онтологии в нашем смысле), причем (в начале Нового времени и долгое время после) не ради них самих, а ради эмпирических наук. И они принесли обильные плоды в виде параллельного развития той восхищаемой науки – рациональной физики.
Разбор сложных моментов и философские параллели:1. Регион (Region) – у Гуссерля это высший материальный род объектов опыта, объединяющий их по сущностным признакам (например, «природа», «сознание», «культура»). Это не географическое понятие, а категориальная структура.
– Сравнение с Кантом: у Канта «региону» отчасти соответствуют априорные формы познания (например, пространство и время как условия чувственности), но Гуссерль идет дальше, вводя эйдетическую онтологию как науку о сущностях.
2. Региональная онтология – это учение о сущностных структурах региона (например, онтология природы изучает не конкретные законы физики, а сущность природного как такового).
– Связь с Аристотелем: у Аристотеля «первая философия» (метафизика) исследует «сущее как сущее», что отчасти перекликается с гуссерлевской онтологией, но у Гуссерля акцент на чистых возможностях (эйдосах), а не на категориях бытия.
3. Эйдос (Eidos) – чистая сущность, постигаемая в эйдетической редукции (отвлечении от фактов).
– Платоновские корни: у Платона эйдосы – это идеальные формы, существующие вне материального мира. Гуссерль «демифологизирует» их, превращая в инвариантные структуры сознания.
4. Res extensa – отсылка к Декарту, у которого материя есть протяженная субстанция. Гуссерль принимает это как сущностный момент материальности, но добавляет, что региональная сущность шире (включая, например, время, движение и др.).
5. Рационализация эмпирического – процесс, при котором опытные науки (например, физика) строятся на основе эйдетических дисциплин (геометрии, математики).
– Пример из истории науки: Галилей и Ньютон использовали математику для описания природы, что соответствует гуссерлевской идее «онтологического фундамента» эмпирических наук.
Важно:
Гуссерль показывает, что науки о фактах (эмпирические) зависят от наук о сущностях (эйдетических). Это продолжение традиции, идущей от Платона (теория идей) и Декарта (математизация природы), но с феноменологическим уклоном: сущности постигаются не умозрительно, а через интуитивное усмотрение (Wesensschau).
Этот параграф важен для понимания кризиса европейских наук (по Гуссерлю): забвение эйдетических основ ведет к технизации науки без понимания ее сути.
§10. Регион и категория. Аналитический регион и его категории.Если мы встанем на позицию исследователя в любой эйдетической науке (например, в онтологии природы), то обнаружим, что (и это нормальный случай) мы направлены не на эйдосы (сущности) как объекты, а на объекты, подчинённые эйдосам, которые в нашем примере относятся к региону "Природа".
Однако здесь мы замечаем, что "объект" – это название для различных образований, которые, тем не менее, связаны между собой. Например:
– "вещь",
– "свойство",
– "отношение",
– "предикативно сформированный комплекс дел" (логическая структура),
– "совокупность",
– "упорядоченное множество".
Очевидно, они не равноправны, а в каждом случае указывают на один первичный вид объективности, который можно назвать "изначальной объективностью", тогда как все остальные выступают как его модификации.
В нашем примере (онтология природы) физическая вещь занимает это привилегированное положение в отличие от физического свойства, физического отношения и т. д.
Но именно это является частью формальной структуры, которая требует прояснения, если термины "объект" и "объектный регион" не должны оставаться в состоянии путаницы. Из этого прояснения, которому мы посвятим следующие рассуждения, автоматически вытекает важное понятие категории, связанное с понятием региона.
1. Категория и регион.С одной стороны, "категория" – это слово, которое в выражении "категория региона" отсылает именно к данному региону (например, к региону "Физическая природа").
С другой стороны, оно связывает определённый материальный регион с формой любого региона вообще, или, что то же самое, с формальной сущностью любого объекта вообще и с "формальными категориями", относящимися к этой сущности.
2. Формальная онтология vs. материальные онтологииСначала может показаться, что формальная онтология (изучающая любые объекты вообще) стоит наравне с материальными онтологиями (изучающими конкретные регионы, например, природу, сознание и т. д.), поскольку формальная сущность любого объекта и региональные сущности играют схожие роли.
Поэтому возникает соблазн говорить не просто о регионах (как мы делали до сих пор), а о материальных регионах и, дополнительно, о "формальном регионе".
Но если мы принимаем такую манеру речи, нужно быть очень осторожным:
– С одной стороны, есть материальные сущности – это "собственно сущности".
– С другой стороны, есть нечто эйдетическое, но фундаментально иное – "форма сущности", которая:
– является сущностью, но "пустой",
– как пустая форма, подходит ко всем возможным сущностям,
– своей формальной всеобщностью охватывает все материальные всеобщности (даже высшие) и предписывает им законы через формальные истины, связанные с её формальной универсальностью.
Таким образом, "формальный регион" – это не регион в том же смысле, что и материальные регионы. Это не регион, а пустая форма любого региона вообще. Все материальные регионы со своими наполненными содержанием эйдетическими особенностями находятся не рядом с ним, а под ним – но лишь формально.
Эта субординация материального формальному проявляется в том, что формальная онтология содержит:
– формы всех онтологий (т. е. всех "собственно онтологий", всех "материальных онтологий"),
– предписывает материальным онтологиям общую формальную структуру – включая ту, которую мы сейчас изучаем в связи с различием между регионом и категорией.
3. Формальная онтология и аналитические категорииИсходим из формальной онтологии (понимаемой как чистая логика в её полном объёме – mathesis universalis), которая, как мы знаем, является эйдетической наукой о любом объекте вообще.
Всякая вещь – это объект в смысле формальной онтологии, и для него можно установить бесконечное множество различных истин, распределённых по многим дисциплинам mathesis universalis.
Но все они сводятся к небольшому набору непосредственных ("фундаментальных") истин, которые функционируют как "аксиомы" в дисциплинах чистой логики.