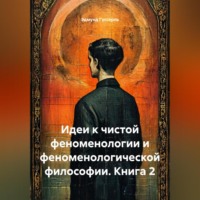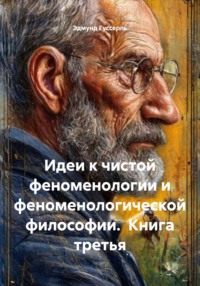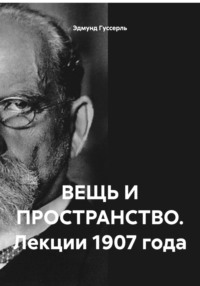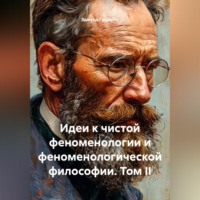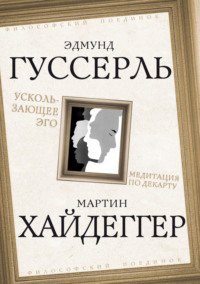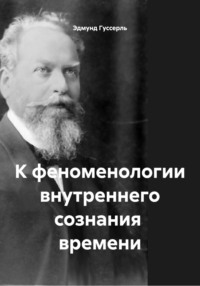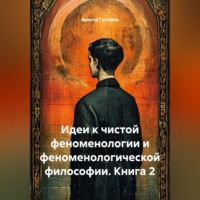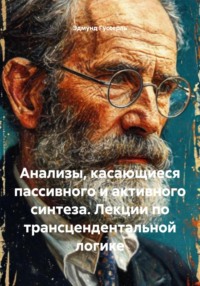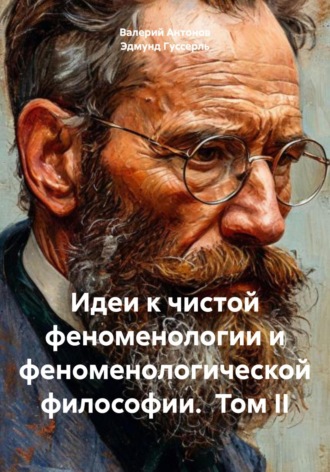
Полная версия
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1
Поэтому мы заменяем опыт чем-то более универсальным – интуицией – и тем самым отвергаем отождествление науки в целом с эмпирической наукой. Более того, легко заметить, что, защищая это отождествление и оспаривая значимость чисто эйдетического мышления, мы приходим к скептицизму, который, будучи подлинным скептицизмом, самоуничтожается через внутреннее противоречие.
Достаточно спросить эмпирика об источнике значимости его универсальных тезисов (например: «Всё обоснованное мышление основывается на опыте как единственной дающей интуиции»), и он неизбежно впадает в очевидное противоречие. Ведь непосредственный опыт даёт лишь единичные факты, но не универсалии – следовательно, он недостаточен. Эмпирик не может апеллировать к эйдетическому усмотрению, поскольку сам его отрицает. Но тогда он может обратиться к индукции и вообще ко всему комплексу опосредованных умозаключений, посредством которых эмпирическая наука получает свои универсальные положения.
Но тогда возникает вопрос: какова природа истинности самих этих опосредованных умозаключений (неважно, дедуктивных или индуктивных)? Разве эта истинность (да и вообще истинность любого единичного суждения) сама по себе может быть дана в опыте и, следовательно, воспринята? А что сказать о тех принципах умозаключений, к которым апеллируют в случае спора или сомнения? Например, о силлогистических принципах, о принципе «две величины, равные третьей, равны между собой» и т. д., – к которым, как к последним основаниям, сводится обоснование всех видов умозаключений? Разве и они сами суть эмпирические обобщения? Или, напротив, не очевидно ли, что подобное понимание содержит в себе глубочайшее противоречие?
Не углубляясь здесь в пространные анализы (которые лишь повторяли бы уже сказанное в других местах), мы, по крайней мере, показали, что фундаментальные тезисы эмпиризма нуждаются в более точном анализе, прояснении и обосновании – причём таком, которое само соответствовало бы нормам, провозглашаемым этими тезисами. В то же время здесь явно возникает по меньшей мере серьёзное подозрение, что в этом отношении к чему-то предшествующему скрыто противоречие. Однако в литературе эмпиризма едва ли можно найти хотя бы начало серьёзной попытки достичь подлинной ясности и научного обоснования этих тезисов.
Здесь, как и везде, научное эмпирическое обоснование требовало бы, чтобы мы исходили из единичных случаев, строго фиксированных теоретически корректным образом, и восходили к универсальным тезисам, используя метод, освещённый эйдетическим усмотрением. Эмпирики, по-видимому, упустили из виду, что те самые научные требования, которые они в своих тезисах предъявляют ко всякому познанию, обращены и к самим этим тезисам.
Будучи подлинными философами предвзятых точек зрения и в явном противоречии со своим принципом свободы от предрассудков, эмпирики исходят из непрояснённых предубеждений, истинность которых не обоснована. Мы же, напротив, исходим из того, что предшествует всем точкам зрения – из всей сферы того, что дано в интуиции до всякой теории, из всего, что можно непосредственно усмотреть и схватить – если только не позволять предрассудкам ослеплять себя и не исключать целые классы подлинных данностей.
Если «позитивизм» означает абсолютно свободное от предрассудков обоснование всех наук на «позитивном», то есть на том, что можно схватить в оригинальном виде, то мы и есть подлинные позитивисты. В самом деле, мы не позволяем никакому авторитету ограничивать наше право признавать все виды интуиции равноправными источниками познания – даже авторитету «современного естествознания». Когда говорит само естествознание, мы охотно слушаем его как ученики. Но не всегда естествознание говорит устами естествоиспытателей – и уж точно не тогда, когда они рассуждают о «натурфилософии» и «теории познания как естественной науке». И, прежде всего, это не естествознание говорит, когда они пытаются убедить нас, что общезначимые истины (как, например, все аксиомы – суждения типа «a + 1 = 1 + a», «суждение не может быть окрашенным», «из двух качественно различных тонов один ниже, другой выше», «восприятие есть по сути восприятие чего-то») суть выражения эмпирических фактов – тогда как мы эйдетически усматриваем, что подобные положения суть экспликации данных эйдетической интуиции.
Но именно эта ситуация показывает нам, что «позитивисты» иногда смешивают кардинальные различия между видами интуиции, а иногда, хотя и видят их противоположность, но, связанные своими предрассудками, признают лишь один из них действительным или даже существующим.
Разбор сложных моментов и философские параллели:1. Интуиция vs. опыт
Гуссерль противопоставляет эмпирический опыт (чувственное восприятие единичного) и эйдетическую интуицию (усмотрение сущностей, универсалий). Это восходит к:
– Канту: различие между апостериорным (опытным) и априорным (независимым от опыта) знанием.
– Платону: идея о том, что подлинное знание – это усмотрение идей (эйдосов), а не чувственных вещей.
2. Критика эмпиризма
Гуссерль показывает, что эмпиризм самоопровергается, поскольку:
– Его универсальные тезисы («всё знание из опыта») не могут быть сами выведены из опыта (т.к. опыт даёт только частное).
– Это напоминает Юма, который показал, что индукция не имеет логического основания, но Гуссерль идёт дальше: даже логические принципы (типа «если А=В и В=С, то А=С») не могут быть эмпирическими обобщениями, ибо они априорны.
3. Позитивизм vs. феноменология
Гуссерль называет себя «подлинным позитивистом», потому что:
– Классический позитивизм (Конт, Мах) сводил знание к чувственным данным, отрицая эйдетическое.
– Феноменология же расширяет понятие данности, включая интеллектуальную интуицию (ср. с Декартом: «ясное и отчётливое восприятие»).
4. Самоопровержение скептицизма
Тезис о том, что «всеобщий скептицизм противоречит сам себе», восходит к:
– Аристотелю: скептик, утверждая, что «ничто не истинно», делает исключение для своего утверждения.
– Гегелю: абсолютный скептицизм снимает сам себя в диалектике.
5. Естествознание и философия
Гуссерль критикует натурализацию философии (попытки свести её к эмпирической науке), что позже разовьёт в «Кризисе европейских наук». Это перекликается с:
– Кантом: «метафизика невозможна как естественная наука».
– Витгенштейном: «философия – не теория, а деятельность по прояснению».
Важно: Гуссерль показывает, что эмпиризм, отрицая эйдетическую интуицию, лишает себя основания для собственных принципов. Подлинная феноменология претендует на беспредпосылочность, признавая все виды интуиции – и тем самым оказывается строгой наукой в отличие от догматического эмпиризма.
§21. Трудности на идеалистической стороне.Действительно, неясности в этом вопросе господствуют и на противоположной стороне. В частности, принимают чистое, «априорное» мышление и тем самым отвергают тезис эмпиризма; однако рефлексивно не доводят до ясного сознания, что существует нечто вроде чистого усмотрения (intuiting) как особого вида данности, в котором сущности даны изначально в качестве объектов – совершенно так же, как индивидуальные реальности даны в опытном созерцании; не признаётся, что каждый акт усматривающего суждения (judging process of seeing), как, например, усмотрение безусловно универсальных истин, также подпадает под понятие интуиции, представляющей объект (presentive intuition), которая имеет множество дифференциаций, прежде всего тех, что соотносятся с логическими категориями.
Конечно, говорят об очевидности (evidence); но вместо того чтобы соотнести её как акт видения (seeing) с обычным восприятием, говорят о «чувстве очевидности» (feeling of evidence), которое, подобно мистическому index veri (указателю истины), придаёт суждениям эмоциональную окраску. Подобные концепции возможны лишь до тех пор, пока человек не научился анализировать виды сознания в чистом наблюдении и эйдетически, вместо того чтобы теоретизировать о них свысока. Эти мнимые «чувства очевидности», «интеллектуальной необходимости» или как бы их ещё ни называли – не более чем теоретически изобретённые чувства. Это признает всякий, кто действительно привёл какой-либо случай очевидности к усматриваемой данности (seen givenness) и сравнил его со случаем неочевидности того же содержания суждения. Тогда сразу замечаешь, что молчаливая предпосылка аффективной теории очевидности – а именно, что суждение, тождественное по остальным аспектам своего психологического содержания, в одном случае сопровождается аффективной окраской, а в другом нет – в корне ошибочна. Напротив, идентичный верхний слой – слой тождественного высказывания (stating), как простое выражение значения (significational expressing), в одном случае шаг за шагом согласуется с ясно видящей интуицией комплекса дел (affair-complex), тогда как в другом случае функционирует совершенно иной феномен – неинтуитивное, быть может, совершенно спутанное и нерасчленённое сознание того же комплекса дел.
С тем же правом в сфере опыта можно было бы представить разницу между ясным и точным перцептивным суждением и любым смутным суждением о том же комплексе дел как состоящую лишь в том, что первое наделено «чувством ясности», а второе – нет.
Объяснение трудных моментов:1. Чистое усмотрение (pure intuiting) – у Гуссерля это способ данности сущностей (essences), аналогичный тому, как в чувственном опыте даны индивидуальные объекты. Это ключевое понятие феноменологии, связанное с эйдетической интуицией (усмотрением сущностей).
2. Очевидность (evidence) – не просто субъективная уверенность, а самоданность истины в сознании. Гуссерль критикует сведение очевидности к «чувству», как это делали некоторые психологисты (например, Теодор Липпс), и настаивает на её интуитивной природе.
3. Аффективная теория очевидности – подход, согласно которому очевидность сводится к эмоциональному переживанию (например, у Брентано и его последователей). Гуссерль отвергает это, утверждая, что разница между очевидным и неочевидным суждением – не в «чувстве», а в наличии или отсутствии ясного интуитивного схватывания.
4. Index veri (указатель истины) – термин, восходящий к схоластике, обозначающий некий признак, по которому можно распознать истину. Гуссерль иронизирует над попытками свести очевидность к «мистическому» чувству.
5. Сравнение с другими философами:
– Кант различал чувственное и интеллектуальное созерцание, но отрицал возможность последнего для человека. Гуссерль же утверждает, что чистое усмотрение сущностей – это и есть аналог интеллектуальной интуиции.
– Брентано и Липпс рассматривали очевидность как внутренний критерий истины, связанный с психологической уверенностью. Гуссерль же отделяет её от психологии, делая акцент на феноменологической данности.
– Декарт говорил о «ясном и отчетливом восприятии» как критерии истины, но Гуссерль углубляет этот подход, анализируя саму структуру интуитивного акта.
Ключевые термины:– Усмотрение (intuiting) – непосредственное схватывание сущности.
– Данность (givenness) – способ, каким объект является сознанию.
– Эйдетический (eidetic) – относящийся к сущностям, а не к фактам.
– Перцептивное суждение (judgment of perception) – суждение, основанное на чувственном восприятии.
Важно: Этот параграф отражает полемику Гуссерля с психологизмом и его стремление обосновать феноменологию как строгую науку о сознании.
§22. Упрек платоническому реализму. Сущность и понятие.Неоднократно вызывало возмущение то, что мы, как «платонизирующие реалисты», постулируем идеи или сущности в качестве объектов и приписываем им – наряду с другими объектами – действительное (wirkliche) бытие, а также, коррелятивно этому, возможность схватывания их в интуиции, подобно тому как мы это делаем в случае реальностей.
Здесь мы можем не учитывать тот тип поспешного читателя, к сожалению, весьма распространённого, который приписывает автору совершенно чуждые ему понятия, а затем без труда находит в его высказываниях абсурдность. Если объект и нечто реальное, действительность и реальная действительность имеют один и тот же смысл, то трактовка идей как объектов и действительности действительно представляет собой извращённую «платоническую гипостазизацию». Но если, как в Логических исследованиях, эти понятия строго различаются, если объект определяется как что угодно (например, как субъект истинного (категориального, утвердительного) высказывания), то какой упрёк может оставаться – кроме того, что проистекает из тёмных предрассудков?
Я не изобрёл универсальное понятие объекта; я лишь восстановил понятие, требуемое всеми положениями чистой логики, и указал, что оно по существу необходимо и потому определяет также универсальный научный язык. И в этом смысле тон c как численно единичный элемент звукового ряда, число два в ряду кардинальных чисел, фигура в идеальном мире геометрических конструкций, любое суждение в «мире» суждений – короче говоря, множество различных идеальных образований – суть «объекты».
Слепота к идеям есть род психической слепоты: из-за предрассудков человек становится неспособным перенести то, что он имеет в поле интуиции, в поле суждения. Истина в том, что все люди видят «идеи», «сущности» и видят их, так сказать, непрерывно; они оперируют ими в мышлении, они также выносят эйдетические суждения – только с их эпистемологической позиции они их интерпретируют, сводя на нет.
Объяснение сложных моментов:1. Платоническая гипостазизация – упрёк, который часто выдвигается против платонизма: обвинение в том, что абстрактные сущности (идеи, числа) наделяются статусом реально существующих объектов. Гуссерль защищает свою позицию, утверждая, что объект ≠ реальный объект, а значит, идеи могут быть объектами, не будучи «реальными» в материальном смысле.
2. Эйдетическая интуиция (идеация) – способность непосредственно усматривать сущности (например, «красноту» как таковую, а не конкретный красный предмет).
3. Психологизм – критика Гуссерля направлена против сведения логических и математических сущностей к психическим процессам (например, числа – не «продукты мышления», а идеальные объекты).
Ссылки на других философов:– Платон: учение об идеях как самостоятельных сущностях.
– Кант: различие между явлением и вещью в себе, но Гуссерль идёт дальше, утверждая, что сущности даны в интуиции.
– Беркли/Юм: эмпирическая критика абстракций, против которой Гуссерль выступает.
– Фреге: антипсихологизм в логике (число – не психический акт, а объективный смысл).
Эмпирические данные терпеливы; они позволяют теориям проходить мимо них, но остаются тем, что они есть. Задача теорий – соответствовать данным, а задача теорий познания – различать фундаментальные виды данных и описывать их в соответствии с их собственной сущностью.
Предрассудки делают людей удивительно легко удовлетворяемыми в отношении теорий. Сущностей не может быть, а значит, не может быть и эйдетической интуиции (идеации); следовательно, если обыденный язык противоречит этому, то это должно быть «грамматической гипостазизацией», которой нельзя позволять вести к «метафизическим гипостазизациям». То, с чем мы фактически имеем дело, – это лишь реальные психические процессы «абстракции», связанные с реальными переживаниями или представлениями. В результате усердно конструируются «теории абстракции», и психология, так гордящаяся своей эмпиричностью, обогащается здесь (как и во всех интенциональных сферах, которые, в конце концов, составляют главную тему психологии) вымышленными феноменами, «психологическими анализами», которые вовсе не являются анализами.
Говорят, что идеи или сущности – это «понятия», а понятия – «ментальные конструкции», «продукты абстракции», и как таковые они действительно играют большую роль в нашем мышлении. «Сущность», «идея» или «эйдос» – это всего лишь изящные «философские» названия для «трезвых психологических фактов». Они опасны из-за своих метафизических намёков.
Ответ Гуссерля:
Безусловно, сущности суть «понятия» – если под понятиями понимать (насколько это позволяет двусмысленность слова) именно сущности. Но пусть при этом отдают себе отчёт в том, что говорить о них как о психических продуктах или как о «формированиях понятий» (если последнее понимать строго и правильно) – бессмыслица.
Иногда в трактате можно прочесть, что ряд кардинальных чисел – это ряд понятий, а чуть далее – что понятия суть продукты мышления. Сначала сами кардинальные числа, сущности, были названы понятиями. Но разве кардинальные числа не являются тем, что они есть, независимо от того, «формируем» мы их или нет?
Конечно, я осуществляю свои числа, формирую свои числовые объективации, когда складываю «один плюс один». Эти числовые объективации сейчас одни, а когда я формирую их вторично тем же способом, они уже другие. В этом смысле в один момент нет ни одной объективации одного и того же числа, а в другой – их множество, сколько угодно объективаций одного и того же числа. Но тем самым мы уже провели (и как можно избежать этого?) различие: числовая объективация – не само число, не число два, этот единичный член числового ряда, который, как и все члены, есть вневременное бытие. Называть его психическим образованием – значит противоречить смыслу, это оскорбление ясного, в любой момент усматриваемого и потому предшествующего всякой теории смысла арифметической речи.
Если понятия – психические образования, то такие предметы, как чистые числа, – не понятия. Но если они – понятия, то понятия – не психические образования. Следовательно, нужны новые термины, хотя бы для разрешения столь опасных двусмысленностей.
Важно:
Гуссерль настаивает на различении между:
– идеальными объектами (числа, сущности) – вневременными и независимыми от сознания,
– психическими актами (восприятие, абстракция) – временными и субъективными.
Это ключевой момент его феноменологии: критика психологизма и обоснование объективности логических и математических истин.
§23. Спонтанность идеации. Сущность и фикция.Но можно возразить: разве не остается истинным и очевидным, что понятия, или, если угодно, сущности, такие как Красное, Дом и т. д., возникают путем абстрагирования из интуиций чего-то индивидуального? И разве мы не конструируем по своей воле понятия из уже сформированных? Таким образом, мы действительно имеем дело с психическими продуктами. Можно даже добавить, что это похоже на случай произвольных фикций: свободно воображаемый нами кентавр, играющий на флейте, – это именно наш объективирующий продукт.
Конечно, «образование понятий», как и свободная фикция, осуществляются спонтанно, а то, что порождено спонтанно, очевидно, является продуктом сознания. Однако то, что мы получаем в случае с кентавром, играющим на флейте, – это объективация в том смысле, в котором объективированное называется объективацией, а не в том, в котором объективация – это название психического процесса. Очевидно, сам кентавр не является ничем психическим; он не существует ни в душе, ни в сознании, ни где-либо еще; кентавр действительно «ничто», он целиком «воображение»; точнее говоря: психический процесс воображения – это воображение кентавра. В этом смысле «мнимый кентавр», фантазируемый кентавр, безусловно принадлежит самому психическому процессу. Однако не следует смешивать этот психический процесс воображения с тем, что в нем воображается как воображаемое.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.