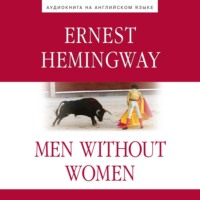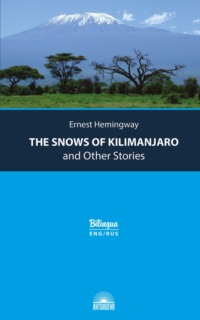Полная версия
Фиеста (И восходит солнце)

Эрнест Хемингуэй
Фиеста (И восходит солнце)

Все вы – потерянное поколение.
Гертруда Стайн (в разговоре)Поколения приходят и уходят, а земля остается навеки. Солнце восходит, и солнце заходит, и вновь спешит к месту своего восхода. Летит ветер на юг, потом направляется к северу, кружится, кружится и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется. И возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова[1].
ЕкклесиастКнига 1

• ГЛАВА 1 •
Роберт Кон одно время был чемпионом Принстона по боксу в среднем весе. Не подумайте, что такое звание сильно меня впечатляет, но для Кона оно много значило. Бокс он ни во что не ставил, даже недолюбливал, но был донельзя усерден и безжалостен к себе, стараясь побороть свою застенчивость и чувство неполноценности, развившееся у него в Принстоне, где евреев не жаловали. Его в каком-то смысле утешала уверенность в том, что он может сбить с ног всякого, кто косо на него посмотрит, но он был таким застенчивым и донельзя славным малым, что дрался только в спортзале. Лучший ученик Паука Келли[2]. Паук Келли всех своих юных джентльменов натаскивал, как полулегких, весили они сто пять или двести пять фунтов[3]. Но Кону это, похоже, подошло в самый раз. Он и вправду был очень быстрым. Видя его успехи, Паук до срока поставил его против сильного противника, и ему навсегда расплющили нос. После этого Кон проникся еще большей неприязнью к боксу, но испытал и своеобразное удовлетворение, не говоря о том, что это пошло на пользу его носу. На последнем курсе в Принстоне он пристрастился к чтению и стал носить очки. Ни один из его однокурсников, кого я встречал, не помнил его. Даже того, что он был чемпионом в среднем весе.
Все простодушные и открытые люди вызывают у меня недоверие, особенно когда их истории сходятся, и я всегда подозревал, что, может, Роберт Кон вовсе не был чемпионом в среднем весе, а на нос ему наступила лошадь, или мама его в детстве уронила, а может, он во что-нибудь врезался, но потом кое-кто, знавший Паука Келли, подтвердил мне его историю. Паук Келли не только помнил Кона. Он часто думал, что с ним стало.
Роберт Кон был отпрыском одного из богатейших еврейских семейств Нью-Йорка по отцовской линии, а по материнской – одного из старейших. В военной школе, где он готовился к Принстону и был отличным крайним в футбольной команде, никого не заботила его национальная принадлежность. До поступления в Принстон никто не давал ему повода почувствовать себя евреем, а стало быть, хоть в чем-то не таким, как другие. Он был славным малым, дружелюбным и очень застенчивым, и ему приходилось несладко. Найдя отдушину в боксе, он окончил Принстон с ущемленным самолюбием и сплющенным носом, и женился на первой девушке, которая подластилась к нему. За пять лет брака он нажил троих детей и истратил большую часть от пятидесяти тысяч долларов, доставшихся ему от отца, тогда как основное имущество перешло к матери, и неурядицы с богатой женой сделали из него довольно хмурого типа; и только он собрался бросить ее, как она первая его бросила и ушла к художнику-миниатюристу. После того, как он несколько месяцев не решался уйти от жены, считая, что поступит с ней слишком жестоко, лишив своей особы, ее уход подействовал на него весьма отрезвляюще.
После развода Роберт Кон перебрался на Западное побережье. В Калифорнии он сошелся с литераторами и, поскольку у него еще кое-что оставалось от пятидесяти тысяч, вскоре стал финансировать художественный журнал. Журнал увидел свет в Кармеле, штат Калифорния, и окончил свои дни в Провинстауне, штат Массачусетс. К тому времени Кон, на которого сперва смотрели как на сущего ангела и указывали его имя в числе прочих членов редколлегии, успел стать полноправным редактором. Он обнаружил, что авторитет редактора за собственные деньги ему нравится. Но издание журнала стало ему не по карману, и он с сожалением оставил это занятие.
Впрочем, к тому времени у него появились другие заботы. Его прибрала к рукам одна леди, которая надеялась сделать себе имя в журнале. Она была очень настойчива, а прибрать Кона к рукам ничего не стоило. К тому же он был уверен, что любит ее. Когда же эта леди поняла, что журнал не оправдал ее надежд, она слегка разочаровалась в Коне и решила получить свое, пока еще могла на что-то рассчитывать, поэтому настояла, чтобы они перебрались в Европу, где Кон стал бы писателем. Они перебрались в Европу, где леди когда-то училась, и прожили три года. За эти три года, первый из которых прошел в путешествиях, а последние два – в Париже, Роберт Кон завел двоих друзей: Брэддокса и меня. Брэддокс стал его другом по литературе. Я – по теннису.
Леди, прибравшая его к рукам (звали ее Фрэнсис), обнаружила к концу второго года, что красота ее увядает, и ее отношение к Роберту перешло от беспечного обладания и помыкания к неуклонной убежденности, что он должен жениться на ней. Как раз в то время мать Роберта назначила ему содержание, около трехсот долларов в месяц. Не думаю, что за все то время – два с половиной года – Роберт Кон взглянул на другую женщину. Он был вполне счастлив, не считая того, что, как и многие живущие в Европе, предпочел бы жить в Америке, к тому же он открыл для себя писательство. Он написал роман, и роман не настолько плохой, как потом утверждали критики, хотя роман был очень слабый. Он читал много книг, играл в бридж, играл в теннис и боксировал в местном спортзале.
Впервые мне открылось отношение к нему его дамы как-то вечером, когда мы втроем обедали. Мы пообедали в «Лавеню» а потом перешли выпить кофе в «Кафе-де-Версаль». После кофе мы выпили несколько рюмок фин[4], и я сказал, что мне пора. Кон говорил о том, чтобы мы с ним вдвоем выбрались куда-нибудь на выходные. Ему хотелось уехать из города и хорошенько размять ноги. Я предложил слетать в Страсбург и прогуляться до Сент-Одиль или еще где-нибудь по Эльзасу.
– Я знаю в Страсбурге одну девушку, которая может показать нам город, – сказал я.
Кто-то пнул меня под столом. Я подумал, что нечаянно, и продолжал:
– Она живет там два года и знает всё, что можно знать об этом городе. Отличная девушка.
Меня снова пнули под столом, и я заметил, как Фрэнсис, дама Роберта, вскинула подбородок и насупила брови.
– Какого хрена мы забыли в этом Страсбурге? – сказал я. – Можем поехать в Брюгге или в Арденны.
Кону, похоже, полегчало. Больше меня не пинали. Я пожелал им спокойной ночи и встал. Кон сказал, что хочет купить газету и пройдется со мной до угла.
– Боже правый, – сказал он, – зачем ты это сказал об этой девушке в Страсбурге? Не видел Фрэнсис?
– Нет, а что? Если я знаю девушку из Америки в Страсбурге, какое, нахрен, Фрэнсис до этого дело?
– Да без разницы. Девушка есть девушка. Я бы не смог уехать, вот и все.
– Не глупи.
– Ты не знаешь Фрэнсис. Любая девушка! Не видел, как она посмотрела?
– Ну что ж, – сказал я, – поедем в Санлис[5].
– Не обижайся.
– Я не обижаюсь. Санлис – хорошее место, и мы можем остановиться в «Большом олене», побродить по лесу и вернуться домой.
– Хорошо, это будет отлично.
– Что ж, увидимся завтра на кортах, – сказал я.
– Спокойной ночи, Джейк, – сказал он и направился к кафе.
– Ты забыл купить газету, – сказал я.
– Это верно. – Он прошелся со мной до киоска на углу и купил газету. – Ты ведь не обиделся, Джейк?
Он повернулся ко мне.
– Нет, с чего бы?
– Увидимся на теннисе, – сказал он.
Я смотрел, как он идет к кафе с газетой в руке. Я по-доброму относился к нему и подумал, что ему не позавидуешь.
• ГЛАВА 2 •
Той зимой Роберт Кон наведался в Америку со своим романом и пристроил его в одно вполне приличное издательство. Я слышал, они с Фрэнсис ужасно поругались, и думаю, тогда она его и потеряла, потому что в Нью-Йорке он славно провел время в женской компании и вернулся другим человеком. Америка как никогда пришлась ему по душе, и он больше не был ни простодушным, ни славным малым. Издатели расточали похвалы его роману, и это вскружило ему голову. Опять же, он славно погулял в Нью-Йорке, и его горизонты расширились. Четыре года его горизонт однозначно ограничивался женой. Три или почти три года он не смотрел ни на кого, кроме Фрэнсис. Уверен, он в жизни не был ни в кого влюблен.
Женился он, чтобы загладить паршивые впечатления от колледжа, а Фрэнсис, подобрав его, загладила впечатления от того, что у его жены, как оказалось, свет клином на нем не сошелся. Он ни в кого еще не был влюблен, но осознал, что представляет собой заманчивую партию для женщин, и само то, что женщина может печься о нем и хотеть с ним жить, – это не какой-то дар небес. Это привело к тому, что находиться рядом с ним стало уже не так приятно. Кроме того, в Нью-Йорке он играл в бридж со своими партнерами, делая чересчур высокие ставки, и умудрился выиграть несколько сот долларов. В результате у него сложилось обманчивое впечатление об этой игре, и пару раз он обмолвился, что всегда можно прожить на бридж, если прижмет.
И случилось еще кое-что. Он начитался У. Г. Хадсона[6]. Это может показаться невинным занятием, но Кон читал и перечитывал «Пурпурную землю». «Пурпурная земля» – книга крайне коварная, если читать ее в зрелом возрасте. В ней рассказывается о феерических амурных похождениях безупречного английского джентльмена на фоне чрезвычайно романтических пейзажей, выписанных в мельчайших подробностях. Брать такую книгу в качестве руководства к действию в тридцать четыре года так же небезопасно, как заявляться на Уолл-стрит прямиком из монастырской школы, вооружившись серией поучительных книжек Элджера[7] для юношества. Кон, я полагаю, воспринимал каждое слово «Пурпурной земли» так же буквально, как если бы это был кредитный отчет Р. Г. Дана[8]. Поймите меня правильно: он допускал определенные натяжки в сюжете, но в целом принимал эту книгу всерьез. Чтобы воспламенить его, большего и не требовалось. Но я не сознавал, насколько он воспламенен, пока однажды он не заглянул ко мне в контору.
– Привет, Роберт, – сказал я. – Ты заглянул подбодрить меня?
– Ты хотел бы отправиться в Южную Америку, Джейк? – спросил он.
– Нет.
– Почему нет?
– Ну не знаю. Никогда особо не хотелось. Слишком дорого. К тому же в Париже южноамериканцев хоть отбавляй.
– Это не настоящие южноамериканцы.
– Как по мне, так даже слишком настоящие.
Мне пора было сдавать на почтовый поезд недельный материал, а я еще не написал и половины.
– Сплетен никаких не знаешь? – спросил я.
– Нет.
– Никто не разводится из твоих светских знакомых?
– Нет; слушай, Джейк. Если я возьму на себя все расходы, ты поедешь со мной в Южную Америку?
– На что я тебе?
– Ты умеешь по-испански говорить. И вдвоем нам будет веселее.
– Нет, – сказал я, – мне нравится этот город, а летом я езжу в Испанию.
– Всю жизнь я хотел совершить такое путешествие, – сказал Кон и присел. – А пока соберусь, буду уже стариком.
– Не дури, – сказал я. – Ты можешь куда угодно отправиться. У тебя полно денег.
– Я знаю. Но не могу решиться.
– Могу утешить, – сказал я. – Все страны похожи на кинокартины.
Но мне было его жаль. Он прямо помешался.
– Невыносимо думать, что жизнь так быстро проходит, а я толком не живу.
– Никто толком не живет, кого ни возьми, кроме матадоров.
– Матадоры мне неинтересны. Это ненормальная жизнь. Я хочу отправиться вглубь Южной Америки. У нас могло бы получиться отличное путешествие.
– А ты не думал отправиться в Британскую Восточную Африку, поохотиться?
– Нет, мне бы это не понравилось.
– Туда бы я с тобой поехал.
– Нет; это мне неинтересно.
– Это потому, что ты не прочел ни одной такой книжки. Давай, прочти книжку, полную любовных приключений с прекрасными лоснящимися черными принцессами.
– Я хочу в Южную Америку.
Было у него это чисто еврейское упрямство.
– Давай спустимся, пропустим по рюмке.
– А ты не занят?
– Нет, – сказал я.
Мы спустились по лестнице в кафе на первом этаже. Я давно нашел прекрасный способ выпроваживать навязчивых друзей. Как только вы пропустили по рюмке, тебе остается сказать: «Что ж, мне пора назад, отправлять телеграммы», – и порядок. В газетном деле, где важно уметь создать впечатление, что ты ничем не занят, очень важно уметь тактично раскланяться. В общем, мы спустились в бар и выпили виски с содовой. Кон оглядел бутылки в ящиках вдоль стены.
– Хорошее здесь место, – сказал он.
– Выпивки хватает, – согласился я.
– Послушай, Джейк. – Он налег на стойку. – У тебя никогда не бывает ощущения, что вся твоя жизнь проходит, а ты не берешь от нее, что можешь? Ты сознаёшь, что прожил уже половину времени, отпущенного тебе?
– Да, случается периодически.
– Ты понимаешь, что лет через тридцать пять мы будем мертвы?
– Какого хрена, Роберт? – сказал я. – Какого хрена?
– Я серьезно.
– Вот уж о чем не волнуюсь, – сказал я.
– А стоило бы.
– Мне в жизни хватало о чем волноваться. Хватит с меня.
– Что ж, а я хочу в Южную Америку.
– Послушай, Роберт, перебравшись в другую страну, ты ничего не решишь. Я все это испробовал. Нельзя убежать от себя, перебравшись в другое место. Этим ничего не добьешься.
– Но ты еще не был в Южной Америке.
– Нахрен Южную Америку! Если ты отправишься туда в таком состоянии, будешь чувствовать себя точно так же. У нас тут хороший город. Почему ты не начнешь жить своей жизнью в Париже?
– Меня тошнит от Парижа и от Квартала[9].
– Держись подальше от Квартала. Курсируй сам по себе – и посмотришь, что случится.
– Со мной ничего не случается. Я как-то раз гулял один всю ночь, и ничего не случилось, только коп на велосипеде попросил предъявить документы.
– Правда, город хорош ночью?
– Меня не волнует Париж.
Вот и все. Мне было жаль его, но я ничем не мог ему помочь, поскольку он вбил себе в голову две идеи: ему полегчает в Южной Америке, а Париж ему надоел. Первую идею он взял из книги, да и вторую, надо думать, тоже.
– Что ж, – сказал я, – мне надо наверх, отправлять телеграммы.
– Тебе правда надо?
– Да, надо разделаться с этими телеграммами.
– Ты не против, если я поднимусь и посижу в конторе?
– Да, поднимайся.
Он сидел в предбаннике и читал газеты и журнал «Редактор и издатель», а я битых два часа стучал на машинке. Затем разложил копии, проштамповал имя автора, убрал все в пару больших конвертов и вызвал посыльного, отнести их на Гар-Сен-Лазар[10]. Выйдя в другую комнату, я нашел Роберта Кона спящим в кресле. Он спал, подложив руки под голову. Мне не хотелось будить его, но я хотел закрыть контору и отчалить. Я тронул его за плечо. Он покачал головой.
– Я этого не сделаю, – сказал он, зарываясь в руки головой. – Я этого не сделаю. Ни за что не сделаю.
– Роберт, – сказал я и потрепал его по плечу.
Он поднял на меня глаза. Улыбнулся и моргнул.
– Я сейчас говорил во сне?
– Вроде того. Но неразборчиво.
– Боже, какой скверный сон!
– Тебя машинка убаюкала?
– Должно быть. Я совсем не спал прошлую ночь.
– Почему?
– Разговаривали, – сказал он.
Я живо это представил. У меня скверная привычка представлять друзей в постельных сценах. Мы отправились в кафе «Наполитен» – пить аперитив и смотреть на вечернюю толпу на бульваре.
• ГЛАВА 3 •
Был теплый весенний вечер, и когда Роберт ушел, я остался сидеть за столиком на террасе «Наполитена» и смотрел, как темнеет, и зажигаются вывески и красные с зеленым светофоры, и как бродят толпы людей, и кэбы цок-цокают вдоль сплошного потока такси, и как бродят пуль[11], по одной и парами, высматривая, где бы поесть. Смотрел, как мимо столика прошла хорошенькая девушка, смотрел, как она пошла вверх по улице и скрылась из виду, и смотрел на другую, а потом увидел, как первая идет назад. Она снова прошла мимо меня, и я поймал ее взгляд, и она подошла и села за столик. Подошел официант.
– Ну, что будете пить? – спросил я.
– Перно.
– Это вредно маленьким девочкам.
– Сам ты маленькая девочка! Dites garçon, un pernod[12].
– И мне перно.
– В чем дело? – спросила она. – На вечеринку собрался?
– А то. Ты тоже?
– Не знаю. В этом городе никогда не знаешь.
– Не нравится Париж?
– Нет.
– Почему не уедешь куда-то еще?
– Нет никакого «еще».
– Похоже, ты счастлива.
– Охренеть, как счастлива!
Перно – это зеленоватое подобие абсента. Когда разбавляешь его водой, он мутнеет. На вкус как лакрица и здорово бодрит, зато потом так же здорово пьянит. Мы сидели и пили, и вид у девушки был хмурый.
– Ну как, – сказал я, – оплатишь мне обед?
Она усмехнулась, но не засмеялась, и я понял почему. С закрытым ртом она могла показаться красавицей. Я заплатил по счету, и мы пошли. Я кликнул кэб, и возница натянул поводья, встав у тротуара. Мы уселись в фиакр и покатили, медленно и плавно, по Авеню-дель-Опера – широкой авеню, сияющей огнями и почти безлюдной, – мимо закрытых магазинов с освещенными витринами. Мы миновали редакцию «Нью-Йорк-геральд», с окном, заставленным часами.
– Зачем так много часов? – спросила девушка.
– Они показывают время по всей Америке.
– Не выдумывай.
Мы свернули с авеню на Рю-де-Пирамид, через оживленную Рю-де-Риволи, и через темные ворота въехали в Тюильри. Девушка прильнула ко мне, и я приобнял ее. Она подставила лицо для поцелуя. Коснулась меня одной рукой, но я отвел ее руку.
– Не беспокойся.
– В чем дело? Ты нездоров?
– Да.
– Все нездоровы. Я сама нездорова.
Мы выехали из Тюильри на свет и переехали Сену, а затем повернули на Рю-де-Сан-Пер.
– Тебе не надо было пить перно, если нездоров.
– Тебе тоже.
– Мне это без разницы. Женщине это без разницы.
– Как тебя звать?
– Жоржетт. А тебя как зовут?
– Джейкоб.
– Это фламандское имя.
– И американское.
– Ты не фламандец?
– Нет, американец.
– Хорошо, не выношу фламандцев.
Мы уже подъехали к ресторану. Я велел коше[13] остановиться. Мы вышли, но Жоржетт не понравилось это заведение.
– Не бог весть что для ресторана.
– Не спорю, – сказал я. – Может, ты бы предпочла «Фуайо»? Садись в кэб – и вперед.
Я взял ее с собой из смутно-сентиментального соображения, что было бы славно поесть вдвоем с кем-нибудь. Я давно не обедал с пуль и успел забыть, как скучно с ними бывает. Мы зашли в ресторан, прошли мимо мадам Лавинь за стойкой и заняли отдельную кабинку. От еды Жоржетт повеселела.
– Здесь неплохо, – сказала она. – Не шикарно, но еда приличная.
– Лучше, чем найдешь в Льеже.
– Брюсселе, хочешь сказать.
Мы распили вторую бутылку вина, и Жоржетт стала шутить. Она улыбнулась, показав все свои плохие зубы, и мы чокнулись.
– А ты ничего, – сказала она. – Жаль, что ты нездоров. Мы с тобой ладим. Все же, что с тобой такое?
– Ранили на войне, – сказал я.
– Ох, эта грязная война!
Мы бы, наверно, продолжили обсуждать войну и согласились, что это, по большому счету, бедствие для цивилизации и лучше было бы не воевать. Я уже скучал. Но тут кто-то окликнул меня издали:
– Барнс! Эгей, Барнс! Джейкоб Барнс!
– Друг зовет, – объяснил я и вышел из кабинки.
За большим столом сидели Брэддокс и компания: Кон, Фрэнсис Клайн, миссис Брэддокс и еще несколько незнакомых мне человек.
– Ты ведь пойдешь танцевать? – спросил Брэддокс.
– Танцевать?
– Ну как же, в дансинг, – вставила миссис Брэддокс. – Ты разве не знаешь, мы их возродили!
– Ты должен пойти, Джейк, – сказала Фрэнсис с дальнего конца стола. – Мы все идем.
Она сидела с прямой спиной и улыбалась.
– Конечно, он идет, – сказал Брэддокс. – Садись, Барнс, выпей с нами кофе.
– Ладно.
– И подругу с собой приводи, – сказала миссис Брэддокс, смеясь.
Уроженка Канады, она отличалась типично канадской простотой.
– Спасибо, мы придем, – сказал я и вернулся в кабинку.
– Кто твои друзья? – спросила Жоржетт.
– Писатели и художники.
– Их полно на этом берегу.
– Даже слишком.
– Согласна. Но некоторые хорошо зарабатывают.
– О, да.
Мы доели и допили вино.
– Идем, – сказал я. – Выпьем кофе с остальными.
Жоржетт открыла сумочку, тронула лицо пуховкой раз-другой, глядя в зеркальце, подкрасила губы помадой и поправила шляпку.
– Хорошо, – сказала она.
Мы вышли в общую комнату, полную людей, и Брэддокс встал, как и остальные мужчины за столом.
– Хочу представить мою невесту, – сказал я, – мадмуазель Жоржетт Леблан[14].
Жоржетт улыбнулась своей прекрасной улыбкой, и мы всем пожали руки.
– Вы родственница Жоржетт Леблан, певицы? – спросила миссис Брэддокс.
– Connais pas[15], – ответила Жоржетт.
– Но у вас одна фамилия, – настаивала миссис Брэддокс простодушно.
– Нет, – сказала Жоржетт. – Вовсе нет. Моя фамилия – Обэн.
– Но мистер Барнс представил вас как мадмуазель Жоржетт Леблан. Я в этом уверена, – настаивала миссис Брэддокс, увлекшаяся французской речью и переставшая понимать, что говорит.
– Он дурак, – сказала Жоржетт.
– Ах, так это была шутка! – сказала миссис Брэддокс.
– Да, – сказала Жоржетт. – Смеха ради.
– Ты слышал, Генри? – Миссис Брэддокс обратилась через стол к Брэддоксу. – Мистер Барнс представил свою невесту как мадмуазель Леблан, а на самом деле она Обэн.
– Ну конечно, дорогая! Мадмуазель Обэн, я очень давно ее знаю.
– О, мадмуазель Обэн, – обратилась к ней Фрэнсис Клайн и затараторила по-французски, очевидно, не испытывая, в отличие от миссис Брэддокс, горделивого изумления оттого, что и вправду говорит по-французски. – Вы давно в Париже? Вам тут нравится? Вы ведь любите Париж, не так ли?
– Кто это такая? – Жоржетт повернулась ко мне. – Я должна с ней говорить?
Она повернулась к Фрэнсис, сидевшей сложив руки и улыбаясь, вскинув голову на длинной шее, вот-вот готовой сказать что-то еще.
– Нет, мне не нравится Париж. Здесь дорого и грязно.
– Правда? А я нахожу его чрезвычайно чистым. Один из самых чистых городов во всей Европе.
– А я нахожу его грязным.
– Как странно! Но вы, возможно, пробыли здесь не слишком долго?
– Я пробыла здесь достаточно долго.
– Но здесь встречаются симпатичные люди. Это следует признать.
Жоржетт повернулась ко мне.
– Симпатичные у тебя друзья.
Фрэнсис была чуть пьяна и говорила бы и дальше, но принесли кофе, и Лавинь подал еще выпивку, а после мы вышли на улицу и направились в дансинг-клуб Брэддоксов.
Дансинг-клуб располагался в баль-мюзетт[16] на Рю-де-ла-Монтань-Сент-Женевьев. Пять вечеров в неделю там танцевали рабочие из квартала Пантеон. Один вечер в неделю там устраивали дансинг-клуб. По понедельникам был выходной. Когда мы пришли, там почти никого не было, не считая полицейского, сидевшего у двери, жены владельца за цинковой стойкой и самого владельца. При нашем появлении сошла по лестнице их дочка. Помещение занимали столы с длинными скамьями, а в дальнем конце располагалась танцплощадка.
– Жаль, никого еще нет, – сказал Брэддокс.
К нам подошла дочка и осведомилась, что мы будем пить. Владелец забрался на высокий табурет рядом с танцплощадкой и заиграл на аккордеоне. На щиколотке у него висели колокольчики, и он встряхивал ими в такт мелодии. Все стали танцевать. Было жарко, и мы вспотели.
– Боже! – сказала Жоржетт. – Ну и парилка!
– Да, жарко.
– Жарко, боже!
– Сними шляпу.
– Хорошая идея.
Кто-то пригласил Жоржетт на танец, и я подошел к бару. Было на самом деле очень жарко, и аккордеон приятно звучал в жарких сумерках. Я пил пиво стоя в дверях, на прохладном ветерке с улицы. По крутой улице приближались два такси. Оба остановились перед дансингом. Вышла толпа молодых ребят – кто в джемперах, кто просто без пиджаков. В свете из дверей мне были видны их руки и свежевымытые волнистые волосы. Полицейский, стоявший у двери, взглянул на меня и улыбнулся. Они вошли. Пока они входили, гримасничая, жестикулируя, болтая, я видел в ярком свете их руки, волнистые волосы, белые лица. И с ними была Бретт. Она чудесно выглядела и однозначно была с ними.
Один из них увидел Жоржетт и сказал:
– Вот это да! Там настоящая шлюшка. Я буду танцевать с ней, Летт. Вот, посмотришь.