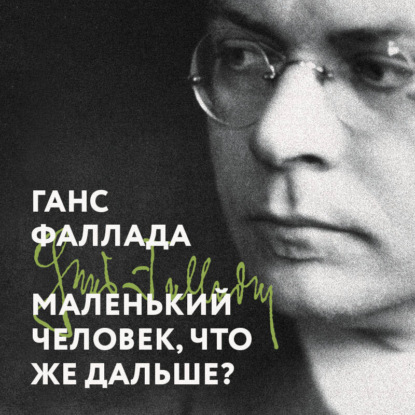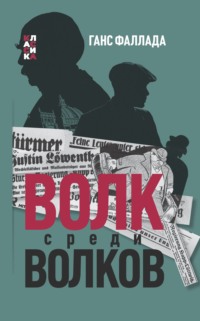Полная версия
Маленький человек, что же дальше?
Лаутербах сразу замечал, если сортировка была неправильной, если они смешивали желтоплодные промышленные сорта с белоплодной «Силезией». Но с другой стороны, Лаутербах был не так уж и плох. Он не брал взяток – он никогда не пил спиртное, потому что нужно защищать арийскую расу от этих дегенеративных наркотиков, – так что он не поднимал рюмку и не брал даже сигар. Он хлопал фермеров по плечам так, что кости хрустели:
– Старый мошенник! – Он вычитал у них десять, пятнадцать, двадцать процентов от цены, но в глазах крестьян это все компенсировало – он носил свастику и рассказывал им самые смешные еврейские анекдоты. Делился впечатлениями от последней рекламной поездки в Бурков и Лензан; короче говоря, он был настоящим тевтоном, надежным соратником, врагом евреев, иностранцев, репараций, социалистов и КПГ. Это все компенсировало.
К нацистам Лаутербах тоже пришел из-за скуки. Оказалось, что Духерове, как и в деревне, особо нечем было себя развлечь. Девушки его не интересовали, церковная служба заканчивалась в половине одиннадцатого утра, а кино начиналось только в восемь вечера – а между этими двумя событиями оставалась уйма свободного времени.
У нацистов скучать не пришлось. Он быстро попал в штурмовики, в уличных столкновениях проявил себя как чрезвычайно рассудительный молодой человек, который использовал свои кулаки (и то, что было в них зажато) с почти художественным эффектом. Теперь жажда жизни Лаутербаха была удовлетворена: драться он мог почти каждое воскресенье – а иногда и по будням вечером. Но настоящим домом для Лаутербаха была контора. Здесь были коллеги, начальник, рабочие, фермеры: им всем он мог рассказывать о том, что произошло, что должно произойти; о праведниках и неправедных изливался вязкий медленный поток его речи, оживленный громогласным смехом, когда он описывал, как отделал советских прихвостней.
Сегодня он, конечно, не может рассказать ничего подобного, зато пришел новый общий приказ для каждого отряда, и теперь Пиннебергу, который появился ровно в восемь, он рапортует: у штурмовиков появились новые значки!
– Это просто гениально! До сих пор у нас был только номер штурма. Знаешь, Пиннеберг, арабская вышитая цифра на правом погоне. Теперь у нас еще появилась двухцветная шнуровка на крае воротника. Это гениально, теперь можно всегда сзади увидеть, к какому штурму принадлежит каждый из нас. Представь себе, что это значит на практике! Так вот, мы находимся в драке, и я вижу, что кто-то кого-то прижал, и я смотрю на воротник…
– Здорово, – подхватывает Пиннеберг и сортирует грузовые накладные с субботнего вечера. – А вот Мюнхен 387 536 – это была сборная партия?
– Вагон с пшеницей? Да. И представь себе, наш командир отряда теперь носит звезду на левом погоне.
– Что значит «командир отряда»? – спрашивает Пиннеберг.
Приходит Шульц, третий голодранец, он появляется в десять минут девятого. Шульц приходит, и в одно мгновение оказываются забыты и нацистские значки, и накладные на пшеницу. Шульц приходит – демонический, гениальный, но ненадежный Шульц, который может вычислить 285,63 центнера по 3,85 марки в уме быстрее, чем Пиннеберг запишет это на бумаге. Он был при этом ловеласом и беззаботным развратником, волокитой и единственным мужчиной, которому удалось поцеловать Марию Кляйнхольц, так сказать, мимоходом, благодаря щедрости своей натуры, но при этом на ней не женившимся.
Шульц приходит с черными завитыми волосами над желтым морщинистым лицом, с черными большими блестящими глазами. Шульц всегда элегантный, в отутюженных брюках и в черной фетровой шляпе (пятьдесят сантиметров в диаметре), Шульц с толстыми кольцами на пальцах, желтых от табака, Шульц – король сердец всех служанок, кумир продавщиц, которые ждут его вечером перед магазином, соперничая за каждую возможность потанцевать с ним.
Шульц приходит.
Он говорит:
– Доброе утро.
Аккуратно вешает свою одежду на вешалку, смотрит на коллег оценивающе, затем с сочувствием, потом с презрением и говорит:
– Ну что ж, вы, конечно, опять ничего не знаете!
– Какую девчонку ты вчера снова завоевал? – спрашивает Лаутербах.
– Ничего вы не знаете. Совсем ничего. Вы сидите здесь, считаете грузовые накладные, делаете расчеты, а при этом…
– Ну, и что при этом?..
– Эмиль… Эмиль и Эмилия… вчера вечером в Тиволи…
– Он ее с собой взял? Такого не бывает!
Шульц садится:
– Образцы клевера тоже пора отправить. Кто этим займется, ты или Лаутербах?
– Ты!
– Я не могу, на клевере специализируется наш дорогой хозяйственник. Шеф танцевал с маленькой черной Фридой с рамочной фабрики. Я отошел всего на два шага, и вдруг старуха на него налетела. Эмилия в одном халате, под ним, наверное, только рубашка была…
– В «Тиволи»?!
– Ты не врешь, Шульц?!
– Клянусь, как я здесь сижу! В «Тиволи», у «Гармонии» был семейный танцевальный вечер. Военный оркестр из Плаца, красота! Рейхсвер, еще лучше! И вдруг наша Эмилия накинулась на своего Эмиля, влепила ему пощечину – ты, говорит, старый пьяница, ты подлая свинья…
Кому теперь какое дело до грузовых накладных? Какая может быть работа? Контора Кляйнхольца обсуждает новую сенсацию!
Лаутербах умоляет:
– Так, расскажи еще раз, Шульц. Жена Кляйнхольца заходит в зал… Я даже не могу это себе представить… через какую дверь? Когда ты ее впервые увидел?
Шульц, польщенный, говорит:
– Что мне еще рассказать? Ты ведь уже все знаешь. Итак, она заходит, прямо через входную дверь, выскакивает из коридора, вся такая, понимаешь, и она становится такой фиолетово-багровой… Она заходит…
В контору вдруг заходит Эмиль Кляйнхольц. Трое резко разбегаются по своим местам, садятся на стулья, усердно шуршат бумагой. Кляйнхольц внимательно смотрит на них, наблюдает опущенные головы:
– Ничего не делаете, да? – хрипит он. – Бездельничаете? Я кого-то из вас уволю. Ну, кого?
Трое не поднимают глаз.
– Рационализация. Где трое могут лениться, двое могут трудиться. Как насчет вас, Пиннеберг? Вы здесь самый младший.
Пиннеберг не отвечает.
– Ну да, конечно, теперь все молчат. Но прежде – как ты там сказал, старый козел, старуха моя фиолетово-багровая? Может, мне вас выгнать? А я вас выгоню сейчас же!
«Подслушал, собака, – думают все трое, побледнев от ужаса. – О боже, боже, что я наговорил?»
– Мы вообще о вас не говорили, господин Кляйнхольц, – говорит Шульц, но очень тихо, будто про себя.
– А вы? Вы? – Клейнхольц обращается к Лаутербаху. Но Лаутербах не так напуган, как его двое коллег. Он из тех немногих сотрудников, которым все равно, есть у них работа или нет.
«Я? – думает он. – Мне бояться? С моими-то руками? Я все могу, я пойду работать конюхом, пойду грузчиком. Служащий? И слышать не хочу! Одно название!»
Лаутербах смело смотрит своему начальнику в красные от гнева глаза:
– Да, господин Кляйнхольц?
Кляйнхольц стучит по витрине так, что она гремит.
– Я одного из вас уволю! Вот увидите… И остальным тоже достанется. Вас тут таких хватает. Идите на склад, Лаутербах, загрузите с Крузе сто центнеров жмыха. От Рюфиска! Стоп, нет, Шульц должен пойти, он сегодня опять выглядит как живой труп, ему пойдет на пользу мешки потаскать.
Шульц исчезает, не сказав ни слова, радуясь тому, что сумел спастись.
– Вы, Пиннеберг, идите на станцию, да поскорее. На завтрашнее утро закажите четыре двадцатитонника, закрытые, нужно загрузить пшеницу на мельницу. Убирайтесь!
– Так точно, господин Кляйнхольц, – говорит Пиннеберг и уходит. Ему не по себе, но, вероятно, это просто похмельный бред Эмиля.
Тем не менее…
Когда он возвращается с грузового вокзала к Кляйнхольцу, он видит на другой стороне улицы знакомую фигуру… Женщину… Свою жену…
И он тут же переходит на другую сторону улицы, к ней.
Вот идет Ягненок, у нее в руках авоська. Она его не заметила. Вот она подходит к витрине мясника Брехта и останавливается у прилавка. Он подходит к ней совсем близко, бросает осторожный взгляд на улицу и верхние этажи – ничего опасного пока не видно.
– Что у вас сегодня на ужин, милочка? – шепчет он ей на ухо и уже через десять шагов оборачивается только один раз, чтобы увидеть ее радостное лицо. Ну что ж, если госпожа Брехт это видела из магазина – а она его знает, он всегда у нее покупал колбасу, – снова поступил немного легкомысленно; ну а что поделать, если у тебя такая красивая жена.
Похоже, что кастрюли она еще не купила; придется очень внимательно следить за деньгами…
В конторе сидит начальник. Один. Лаутербах ушел. Шульц ушел. Пиннеберг думает: «Плохо, очень плохо». Но начальник вовсе не обращает на него внимания – подперев голову одной рукой, он медленно, как будто по буквам, водит пальцем по строкам цифр в кассовой книге.
Пиннеберг оценивает ситуацию. «За печатную машинку, – думает он, – это самое разумное. Когда печатаешь, меньше всего отвлекают». Но он ошибается. Едва он напечатал: «Ваше высокоблагородие, разрешите представить вам образец нашего красного клевера, урожая этого года, гарантированно свободного от семян, всхожесть девяносто пять процентов, чистота девяносто процентов…»
…Как вдруг рука ложится ему на плечо и начальник говорит:
– Пиннеберг, на минутку…
– Да, господин Кляйнхольц? – спрашивает Пиннеберг и убирает пальцы с клавиш.
– Вы пишете о красном клевере. Оставьте это Лаутербаху…
– Ох…
– С вагонами все в порядке?
– В порядке, да, господин Кляйнхольц.
– Нам всем сегодня после обеда нужно крепко поработать и загружать пшеницу. Мои женщины тоже должны помочь. Завязывать мешки.
– Да, господин Кляйнхольц.
– Мария очень способна в этом деле. Вообще-то, она молодец. Не красавица, но молодец.
– Конечно, господин Кляйнхольц!
Так они оба сидят друг напротив друга. Это своего рода пауза в разговоре. Господин Кляйнхольц хочет, чтобы его слова подействовали правильно, они своего рода проявитель, теперь станет ясно, какой образ получится на пластинке.
Пиннеберг сидит с тоской и тревогой смотрит на своего начальника в грубом зеленом костюме, потом на его высокие сапоги.
– Да, Пиннеберг, – снова начинает начальник, и его голос звучит очень трогательно. – Вы ведь уже подумали?
Пиннеберг с тревогой размышляет. Но он не видит выхода.
– О чем, господин Кляйнхольц? – спрашивает он глупо.
– О сокращении, – говорит после долгой паузы хозяин, – о сокращении! Кого бы вы на моем месте уволили?
Пиннебергу становится нестерпимо душно. Какой подлец. Какая свинья, так меня подставляет!
– Я не знаю, господин Кляйнхольц, – объясняет он беспокойно. – Я же не могу говорить против своих коллег.
Господин Кляйнхольц наслаждается ситуацией.
– Вы бы, значит, не уволили себя на моем месте? – спрашивает он.
– Если бы я был вами? Себя самого? Я же не могу…
– Ну, – говорит Эмиль Кляйнхольц и встает. – Я уверен, вы подумаете над этим. Уведомить вас я, конечно, должен за месяц. Значит, с первого сентября и до первого октября, не так ли?
Кляйнхольц покидает офис, чтобы рассказать жене, как он «припугнул» Пиннеберга. Возможно, она тогда даже нальет ему стаканчик. Ему, на самом деле, только того и надо.
Гороховый суп ставится на плиту, письмо пишется, но вода слишком жидкая.Сначала утром Ягненок пошла за покупками, быстро вывесила постельное белье проветриться в окно, и ушла по делам. Почему он ей не сказал, что хочет на обед? Она же этого не знает!
И она понятия не имеет, что он любит есть.
Возможности уменьшаются при размышлениях, в конце концов, находчивый ум Ягненка останавливается на гороховом супе. Это просто и дешево, и суп можно есть два дня подряд.
– О боже, как повезло девушкам, которые действительно учились готовить! Меня мама всегда гоняла от плиты. «Убирайся, неумеха!»
Что ей нужно? Вода есть. Кастрюля есть. Горох, сколько? Полфунта точно хватит на двоих, горох сильно разваривается. Соль? Овощи для супа? Немного жира? Ну, на всякий случай. Сколько мяса? Какое мясо? Говядина, конечно, говядина. Полкило должно быть достаточно. Горох очень питательный, а много мяса есть вредно. И, конечно, картошка.
Ягненок идет за покупками. Как прекрасно в простой будний день, когда все сидят в конторах, бродить по улице – воздух еще свежий, хотя солнце уже светит ярко.
По рыночной площади медленно проезжает большой желтый почтовый автобус. За его окнами, возможно, сидит ее Ганнес. Но его там нет, и десять минут спустя он спрашивает ее через плечо, что у них будет на обед. Продавщица наверняка что-то заметила – она как-то странно себя ведет, и за косточки для супа она требует тридцать пфеннигов за фунт – а ведь это просто голые кости, без малейшего кусочка мяса. Она напишет матери и спросит, правильно ли это. Нет, лучше не стоит, лучше справиться самой. Но его маме она все же должна написать. И по пути домой она начинает набрасывать письмо в уме.
Вдова Шарренхёфер кажется ей всего лишь ночным призраком; когда Ягненок идет на кухню за водой, она не видит никаких следов того, чтобы тут обитал живой человек – все пусто, холодно, и из ее комнаты не доносится ни звука. Она ставит горох на плиту: стоит ли сразу добавлять соль? Лучше подождать до конца, так будет вернее.
А теперь уборка. Это трудно, гораздо труднее, чем Ягненок когда-либо думала, – о, эти старые бумажные розы, эти наполовину выцветшие гирлянды; эти потертые мягкие кресла, когда-то бывшие ядовито-зелеными, эти вечные углы, эти закоулки, сплошные ручки, эти чертовы балюстрады! До половины двенадцатого ей нужно закончить, а потом написать письмо. Ганнес, у которого с двенадцати до двух перерыв на обед, вряд ли будет здесь раньше четверти первого – ему сначала нужно зарегистрироваться в полиции.
В четверть первого она сидит за маленьким письменным столом из орехового дерева, перед ней желтая писчая бумага времен ее девичества.
Сначала адрес: «госпожа Мария Пиннеберг – Берлин, Северо-запад, 40 – Шпенерштрассе 92, 11».
Как он мог не написать своей матери? Родной матери нужно сообщать, когда ты женишься, тем более будучи единственным сыном – единственным ребенком. Даже если ты не согласен с ней, даже если не одобряешь ее образ жизни.
– Мама должна бы постыдиться… – объяснил когда-то Пиннеберг.
– Но, мальчик мой, она ведь уже двадцать лет как овдовела!
– Неважно! И потом, это были разные мужчины…
– Ганнес, у тебя ведь тоже было больше девушек, чем у меня мужчин.
– Это совсем другое…
– Что скажет наш Малыш, когда посчитает, когда он родился и когда мы поженились?
– Еще неизвестно, когда Малыш родится.
– Известно. В начале марта.
– Но почему?
– Брось, мальчик, уж я-то знаю. А твоей матери я все же напишу, так надо.
– Делай как хочешь, но я больше не хочу об этом слышать.
– «Уважаемая благородная фрау» – ужасно глупо, правда? Так не пишут. «Дорогая фрау Пиннеберг» – но это же я сама, и звучит это тоже не очень хорошо… Ох, Ганнес точно прочитает это письмо.
«Ах, что я беспокоюсь, – думает Ягненок, – либо она действительно такая, как говорит мальчик, и тогда вообще неважно, что я напишу, либо она на самом деле милая женщина, и тогда я лучше напишу так, как хочу».
Итак:
– «Дорогая мама! Я ваша новая невестка Эмма по прозвищу Ягненок – Ганнес и я поженились позавчера, в субботу. Мы счастливы и довольны и были бы совершенно счастливы, если бы вы порадовались вместе с нами. У нас все хорошо, только Ганнесу, к сожалению, пришлось оставить свою прежнюю работу, и теперь он работает в магазине удобрений, что нам не очень нравится. Передаем вам привет. Ваши Овечка и…»
Она оставляет немного места:
– Ты все-таки тоже его подпишешь, мой мальчик!
И поскольку до обеда есть еще полчаса, она берет свою книгу, купленную две недели назад, под названием «Святое чудо материнства».
Она начинает читать с нахмуренным лбом:
– Да, счастливые, солнечные дни наступают, когда рождается малыш. Этим божественная природа компенсирует несовершенство человека.
Она пытается что-то понять, но мысль неумолимо ускользает – книга кажется ей ужасно сложной, и, наверное, она не совсем относится к ее Малышу… Но вот появляются несколько строк, она читает их медленно, несколько раз:
– О, малюткины уста,В них волнение и мудрость,Птичьей трели череда,Соломонова разумность.Их Ягненок тоже не вполне понимает. Но они такие веселые, она откидывается назад – в эти мгновенья она ощущает свой живот таким тяжелым, драгоценным, и она повторяет строчки стихотворения про себя с закрытыми глазами:
– Птичьей трели череда, Соломонова разумность. Это, должно быть, самое веселое, что существует, – чувствует она. – Малыш должен всегда быть веселым! Птичьей трели череда…
– Обед готов? – кричит ее мальчик уже из коридора.
Кажется, Ягненок заснула ненадолго… Она сейчас так сильно устает.
«Обед» – думает она и медленно встает.
– Еще не накрыто? – спрашивает он.
– Минутку, мальчик мой, сейчас, – говорит она и бежит на кухню. – Могу я принести кастрюлю на стол? Но я с удовольствием возьму и супницу!
– А что там?
– Гороховый суп.
– Отлично. Ну, давай уже кастрюлю. Я пока накрою.
Ягненок наливает суп. Она выглядит немного встревоженной.
– Кажется, немного жидковато? – беспокоится она.
– Ничего, тебе кажется, – говорит он и нарезает мясо на тарелке.
Она пробует.
– О боже, слишком жидко! – говорит она невольно. И за этим следует: – Ой, а соль!
Он также опускает ложку, и их взгляды встречаются над столом, над тарелками, над коричневой эмалированной кастрюлей.
– Должно было получиться вкусно, – жалуется Ягненок. – Я все правильно взяла: полфунта гороха, полфунта мяса, целый фунт костей – это должен быть хороший суп!
Он встал и задумчиво помешал суп большим черпаком.
– Иногда выходит неудачно. Сколько воды ты налила, Ягненок?
– Должно быть, дело в горохе! Горох вообще не разварился!
– Сколько воды? – повторяет он.
– Ну, полную кастрюлю.
– Пять литров – и полфунта гороха. Я думаю, Ягненок, – говорит он загадочно, – дело в воде. Вода слишком жидкая.
– Ты думаешь? – спрашивает она с грустью. – Я налила слишком много? Пять литров? Но этого должно хватить на два дня.
– Пять литров – я думаю, это слишком много для двух дней. – Он пробует снова. – Нет, извини, Ягненок, это действительно просто горячая вода.
– Ах, мой бедный мальчик, ты ужасно голоден? Что же теперь делать? Может быть, я быстро принесу несколько яиц и пожарю картошку с яичницей? Яичницу и жареный картофель я точно могу.
– Ну давай! – говорит он. – Я сам схожу за яйцами. – И уходит.
Когда он возвращается к ней на кухню, ее глаза слезятся от лука, который она нарезает для жареного картофеля.
– Ну-ну, Ягненок, – говорит он, – это же не трагедия!
Она обнимает его за шею обеими руками.
– Мальчик, я такая неумеха! Я так хочу хорошо о тебе заботиться… И если Малыш не будет хорошо питаться, он не сможет расти!
– Ты имеешь в виду сейчас или потом? – спрашивает он, смеясь. – Ты думаешь, ты никогда не научишься?
– Видишь, ты еще и подшучиваешь надо мной.
– Что касается супа, я как раз об этом думал на лестнице. Твоему супу ведь всего хватает, только слишком много воды. Если ты его снова поставишь и будешь варить долго и правильно, чтобы вся лишняя вода выкипела, тогда у нас будет целая кастрюля хорошего горохового супа.
– Отлично! – говорит она с улыбкой. – Ты прав. Я сделаю это сегодня днем, тогда мы сможем съесть по тарелке на ужин.
Они идут в комнату с жареным картофелем и яичницей.
– Вкусно? Вкусно так, как ты привык? Не слишком поздно? Ты не можешь еще немного полежать? Ты выглядишь таким уставшим, мальчик.
– Нет. Не потому, что слишком поздно, нет, я сегодня не могу спать. Этот негодяй Кляйнхольц…
Он долго думал, стоит ли ей это рассказывать. Но в любом случае в субботнюю ночь они договорились, что больше не будет секретов. И поэтому он рассказывает ей. Как же хорошо, когда можно выговориться!
– А что мне теперь делать? – спрашивает он. – Если я ему ничего не скажу, он точно уволит меня первого числа. А если я просто скажу ему правду? Если скажу, что я женат и чтобы он не выгонял меня на улицу?
Но в этом Ягненок настоящая дочь своего отца: от работодателя работник ничего хорошего ждать не может.
– Да ему на это наплевать, – говорит она возмущенно. – Раньше, да, может быть, иногда были и порядочные… Но сегодня, когда столько безработных и всем нужно как-то выживать, им и на своих людей наплевать, так они думают!
– На самом деле этот Кляйнхольц не такой уж плохой, – говорит Пиннеберг. – Просто он не подумал. Нужно было ему все как следует объяснить. Что мы ждем Малыша и так далее…
Ягненок в возмущении:
– Ты хочешь ему это рассказать! Тому, кто тебя шантажирует? Нет, мальчик мой. Этого ты делать не будешь.
– Но что же мне делать? Я ведь должен ему что-то сказать.
– Я, – сказала Ягненок задумчиво, – я думаю нужно поговорить с твоими сослуживцами. Может быть, он им тоже угрожал, как и тебе. А если вы все вместе объединитесь, он не сможет уволить всех троих.
– Это может сработать, – говорит он. – Если только они меня не подведут. Лаутербах не обманет, он слишком глуп для этого, но Шульц…
Ягненок верит в солидарность всех трудящихся:
– Твои товарищи не подведут тебя! Нет, мальчик мой, все будет хорошо. Я всегда думаю, что у нас все будет хорошо. Почему нет? Мы трудолюбивые, мы экономные, люди мы не плохие, мы ждем Малыша и очень хотим его – почему же нам должно быть плохо? Это совершенно бессмысленно!
Кляйнхольц ругается, Кубе ругается, а сослуживцы струсили. Гороховый суп все еще не готов.Зерновой склад фирмы Эмиля Кляйнхольца – это старая запутанная история. Здесь даже нет нормального оборудования для упаковки. Все приходится взвешивать на десятичных весах, а мешки спускают по желобу в грузовик через люк.
Шестнадцать сот центнеров пшеницы за один день – это настоящее театральное представление Кляйнхольца. Никакой организации труда, никакого распределения обязанностей. Пшеница лежит на полу неделю – уже две недели, – можно было бы давно начать упаковку, но нет, все будет сделано за один день!
На складе кишит народ – все, кого Кляйнхольц смог наскоро набрать, помогают. Несколько женщин сгребают пшеницу в кучи, работают трое весов: Шульц на первых, Лаутербах на вторых, Пиннеберг на третьих.
Эмиль бегает взад-вперед, настроение у него еще хуже, чем утром, – Эмилия не давала ему пить ни капельки, поэтому ее и Марию не пустили на склад. Все отцовское чувство заботы было подавлено гневом угнетенного.
– Чтоб духу вашего здесь не было, твари!
– Каков нужный вес мешка, господин Лаутербах? Какой же вы идиот! Двухцентнеровый мешок весит три фунта, а не два! В мешках, господа, должно быть ровно по два центнера и три фунта. И чтобы никакого перевеса. Мне раздавать нечего. Я буду перевешивать, мой дорогой Шульц.
Двое скатывают мешок по желобу. Мешок развязывается, поток красновато-коричневой пшеницы рассыпается по полу.
– Кто завязал мешок? Вы, Шмидтен? Черт возьми, вы же должны уметь обращаться с мешками! Вы ведь не молоденькие девки. Не пяльтесь так, Пиннеберг, ваши весы показывают перевес! Разве я вам не говорил, болваны вы чертовы, что мы не допускаем перевеса?
Теперь Пиннеберг действительно очень злобно пялится на своего начальника.
– Не смотрите на меня так! Если вам здесь что-то не нравится, пожалуйста, можете уйти. Шульц, осел ты эдакий, немедленно отпусти Мархайнеке. Ты что, на моем складе с девками развлекаться собрался?
Шульц что-то бормочет в ответ.
– Закройте рот! Вы там Мархайнеке за задницу ущипнули, я видел. Сколько мешков у вас сейчас?
– Двадцать три.
– Так дело не пойдет. Не пойдет! Но я вам скажу, никто со склада не уйдет, пока не будет упаковано восемьсот мешков! Обеда не будет. Вот постоите тут до одиннадцати ночи, тогда посмотрим…
Под крышей душно и жарко, августовское солнце безжалостно палит. Мужчины одеты только в рубашки и брюки, женщины тоже почти раздеты. Пахнет сухой пылью, потом, сеном, свежей блестящей джутовой тканью мешков с пшеницей, но больше всего потом, потом и еще раз потом. Густой смрад тел сносит голову, и смрад самой низменной чувственности становятся все более ощутимыми. А посреди этого непрерывно гремит голос Кляйнхольца, как гудящий гонг:
– Ледерер, держите лопату правильно! Черт побери, разве так держат лопату?! Держите мешок ровно, жирная вы свинья, отверстие у него сверху. Вот так это делается…
Пиннеберг управляет своими весами. Совершенно механически он опускает задвижку:
– Еще немного, госпожа Фрибе. Еще чуть-чуть. Вот, теперь снова слишком много. Еще горсть выбросьте. Поехали! Следующий! Поторопитесь, Хинрихсен, ваша очередь. А то мы здесь до полуночи застрянем.