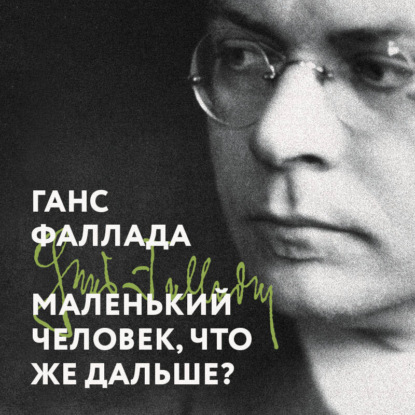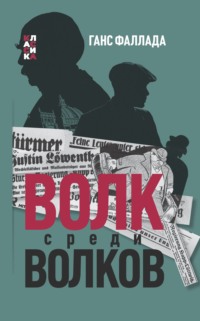Полная версия
Маленький человек, что же дальше?
– Ох, милый… – говорит она нараспев. – Милый ты мой мальчик…
Ветер колышет белые занавески на окнах. Комната залита мягким светом. Словно притянутые волшебством, они идут рука об руку к открытому окну и выглядывают наружу.
Луга лежат перед ними в лунном свете. Справа мерцает дрожащая точка: последний газовый фонарь на Фельдштрассе. Перед ними раскинулось поле, красиво разделенное на дружелюбное светлое пространство и мягкую глубокую тень, где стоят деревья. Так тихо, что они слышат, как Штрела струится по камням. А ночной ветер нежно касается их волос.
– Как здесь красиво, – говорит она. – Как спокойно!
– Да, – отвечает он. – Это действительно приятно. Дыши глубже, воздух здесь совсем не тот, что у вас в Плаце.
– У нас… Я больше не в Плаце, я больше ему не принадлежу, я в Зеленом конце у вдовы Шарренхёфер…
– Только у нее?
– Только у нее.
– Спустимся вниз?
– Погоди, мальчик мой, давай отдохнем здесь еще немного. Я должна тебя кое о чем спросить.
«Вот оно что», – думает он.
Но она не спрашивает. Она прислонилась к окну, ветер колышет ее светлые волосы на лбу, укладывая их то так, то эдак. Он наблюдает за этим.
– Так спокойно… – говорит Ягненок.
– Да, – отвечает он. – А лучше иди в постель, Ягненок.
– Разве мы не можем немного посидеть? Завтра можно спать долго, ведь будет воскресенье. И потом я хочу тебя кое о чем спросить.
– Так спрашивай уже!
Его голос звучит немного раздраженно. Пиннеберг достает сигарету, осторожно зажигает ее, делает глубокую затяжку и снова говорит, но заметно мягче:
– Спрашивай уже, Ягненок.
– Ты разве сам не знаешь?
– Откуда мне знать, о чем ты хочешь спросить!
– Ты знаешь! – упрямится она.
– Нет, точно не знаю, Ягненок…
– Знаешь-знаешь…
– Ягненок, пожалуйста, будь разумной. Спрашивай уже!
– Сам не догадаешься?
– Ну тогда не спрашивай! – обиженно фыркает он.
– Мальчик мой, – говорит она. – Ты помнишь, как мы сидели на кухне? В день нашей помолвки? Было совсем темно, и так много звезд, и иногда мы выходили на кухонный балкон.
– Да, – отвечает он угрюмо. – Я все помню. И что?
– Ты не помнишь, о чем мы там говорили?
– Слушай, мы тогда много болтали. Разве я могу обо всем помнить!
– Но мы обсуждали кое-что очень конкретное. Мы даже пообещали друг другу.
– Не знаю, – коротко отвечает он.
И вот перед Эммой Пиннеберг, урожденной Мюршель, раскинулось это лунное поле. Маленькая газовая лампа справа подмигивает. А прямо напротив, на этом берегу Штрелы, стоят пять или шесть деревьев. Штрела журчит, а ночной ветер очень ласков. Все это действительно очень приятно, и можно было бы оставить этот вечер таким, какой он есть: приятным. Но в Ягненке есть что-то, что беспокоит и не дает покоя, что-то вроде голоса: это же лживое приятное состояние, это же самообман. Можно оставить все как есть, и тогда вдруг окажешься по уши в грязи.
Ягненок резко поворачивается к пейзажу спиной и говорит:
– Нет, мы кое-что пообещали. Мы пообещали друг другу быть всегда честными и не иметь секретов друг от друга.
– Позволь напомнить, это было иначе. Это ты мне пообещала.
– А ты разве не хочешь быть честным со мной?
– Хочу, конечно. Но есть вещи, которые женщинам знать не нужно.
– Вот как! – Ягненок выглядит совершенно пораженной. Но она быстро приходит в себя и торопливо добавляет: – А то, что ты дал водителю пять марок, когда такси стоило всего две марки сорок, – это такая вещь, которую мы, женщины, не должны знать?
– Он же поднял чемодан и мешок с постельным бельем!
– За две марки шестьдесят? А почему ты держал правую руку в кармане, чтобы не видно было кольца? А почему крыша машины должна была быть закрыта? А почему ты раньше не пошел вниз за покупками, пока там кто-то был? А почему люди могут обидеться на то, что мы поженились? А почему?..
– Ягненок, – говорит он, – Ягненок, я действительно не хочу…
– Это все ерунда, мальчик мой, – отвечает она, – ты просто не должен иметь секретов от меня. Если у нас появятся секреты, мы начнем врать друг другу, и тогда у нас будет как у всех остальных.
– Да, да, Ягненочек, но…
– Ты можешь сказать мне все, мальчик, абсолютно все! Даже если ты называешь меня Ягненком, я не такая наивная. Я ведь ни в чем тебя не упрекну!
– Да, да, Ягненочек, знаешь… На самом деле, все не так просто. Я бы хотел, но… это выглядит так глупо, это звучит так…
– Дело в другой девушке? – спрашивает она решительно.
– Нет. Нет. Или да, но все не так, как ты думаешь.
– Как же? Расскажи мне, мальчик мой. Ах, мне ужасно интересно.
– Ну, Ягненок, если ты настаиваешь… – Но он снова колеблется. – Может, я могу рассказать тебе об этом завтра?
– Нет, расскажи сейчас! Прямо сейчас! Ты думаешь, я смогу уснуть, если буду ломать себе голову над этим? Это связано с девушкой, но не совсем с девушкой… Это звучит так загадочно.
– Ну, тогда слушай. Начну с Бергмана… ты ведь знаешь, что вначале я работал у Бергмана?
– В магазине одежды, да. И я тоже считаю магазин одежды намного привлекательнее, чем картошка и удобрения. Удобрения… Вы даже продаете настоящий навоз?
– Если ты сейчас будешь надо мной смеяться, Ягненок!..
– Я слушаю.
Она села на подоконник и поочередно смотрит на своего мужа и на лунное поле. Она может снова на него смотреть. Ведь все это так прекрасно.
– Так вот, у Бергмана я был первым продавцом с зарплатой в сто семьдесят марок…
– Первый продавец и сто семьдесят марок?!
– Тише! Мне всегда приходилось обслуживать господина Эмиля Кляйнхольца. Ему нужно было много костюмов. Знаешь, он пьет. Ему приходится это делать по работе с фермерами и помещиками. Но сам он не переносит алкоголь. И поэтому он частенько валяется на улице и пачкает свои костюмы.
– Ужас! Как же он выглядит?
– Слушай дальше. Так вот, мне всегда приходилось его обслуживать – так как ни начальнику, ни начальнице не удавалось ему угодить. Если меня не было, они терпели убытки, а я всегда находил к нему подход. И при этом он говорил мне, что если я хочу измениться, что если мне надоела еврейская экономика, у него чисто арийское предприятие и хорошая должность бухгалтера, и у него я смогу зарабатывать больше… Я думал: говори что хочешь! Я ценю то, что у меня есть, а Бергман вовсе неплохой, всегда порядочно относится к сотрудникам.
– И почему же ты все-таки ушел от него к Кляйнхольцу?
– Ах, из-за такой ерунды. Знаешь, Ягненок, здесь, в Духерове, так устроено, что каждое утро каждое предприятие забирает почту от ведомства с помощью стажеров. Другие из нашей отрасли тоже: Штерн, Нойвирт и Моисей Минден. И стажерам строго запрещено показывать друг другу почту. На пакетах они должны сразу же толстым маркером зачеркивать отправителя, чтобы конкуренты не догадались, где и что мы покупаем. Но стажеры все знакомы с училища, и часто болтают друг с другом, и забывают зачеркивать. А некоторые и в самом деле шпионят, особенно Моисей Минден.
– Ох, в маленьких городках все так мелочно… – вздыхает Ягненок.
– В больших городах все то же самое. Так вот, «Рейхсбаннер» хотел купить триста ветровок. И все четыре наших текстильных магазина получили запрос на предложение. Мы знали, что конкуренты шпионят, хотят выяснить, откуда мы получаем наши образцы. И поскольку мы не доверяли стажерам, я сказал Бергману: я сам пойду, сам заберу почту в эти дни.
– Ну? И? Они выяснили? – спрашивает Ягненок с интересом.
– Нет, – говорит он и выглядит сильно обиженным, – конечно, нет. Если хоть один стажер всего на десять метров приближался к моим пакетам, я сразу грозился навешать ему тумаков. Заказ получили мы.
– Ах, мальчик мой, ну расскажи же наконец. Когда в истории появится та девушка, о которой я должна знать? Ведь не по этой причине ты ушел от Бергмана.
– Да, я уже говорил, – говорит он довольно смущенно, – это случилось из-за полнейшей ерунды. Две недели я сам забирал почту. И это так понравилось начальнице, что между восемью и девятью у меня все равно не было дел в магазине, а стажеры в то время, пока меня не было, могли подметать склад, так что она просто объявила: «Господин Пиннеберг, теперь вы всегда будете забирать почту». А я сказал: «Нет, с чего бы мне это делать? Я успешный продавец, я не буду бегать с пакетами по городу». А она сказала: «Будете!» А я сказал: «Нет!» В конце концов, мы оба разозлились, и я ответил ей: «Вы вообще не имеете права мне приказывать. Не вы меня нанимали, а господин Бергман!»
– А что сказал начальник?
– Что он мог сказать? Он же не мог признать, что его жена неправа! Он все меня уговаривал, а потом, когда я продолжил упорствовать, неловко сказал: «Ну что ж, тогда нам придется расстаться, господин Пиннеберг!» А я ответил, так как вдоволь разгорячился: «Хорошо, расстанемся к первому числу». Он сказал: «Вы еще одумаетесь, господин Пиннеберг». И я бы одумался, но тут как раз пришел несчастный Кляйнхольц и заметил, что я взволнован, и стал все выпытывать, и в итоге пригласил меня к себе тем вечером. Мы выпили коньяка и пива, а когда я вернулся домой, меня уже наняли бухгалтером за сто восемьдесят марок. Хотя я о настоящем бухгалтерском учете почти ничего не знал!
– О, мальчик мой! А твой другой начальник, Бергман? Что он сказал?
– Ему было жаль. Он уговаривал меня: «Откажитесь от этого, Пиннеберг», – и все время повторял: «Вы же не собираетесь с открытыми глазами бежать навстречу собственной гибели?! Вам ведь придется жениться на его дочурке – сыночек ведь того и гляди доведет своего папеле до белой горячки. А дочка еще хуже, чем сынок».
– Твой начальник так и сказал «папеле»?
– Ну да, здесь ведь все правоверные евреи. Они очень этим гордятся. Говорят: «Не будь подлецом, ты же еврей».
– Мне евреи не очень нравятся, – говорит Ягненок. – А что насчет дочери?
– Да представь себе, вот в чем дело. Четыре года я жил в Духерове и не знал, что Кляйнхольц хочет силой выдать свою дочь замуж. Мать у нее ужасная, целый день орет и носится с вязаными кофтами, а дочка – это какое-то чудовище по имени Мария!
– И ты должен был на ней жениться, бедный мальчик?
– Да, именно на ней мне и велено жениться, Ягненок! У Кляйнхольца только неженатые работники – сейчас нас трое, но на меня охотятся больше всего.
– Сколько ей лет, этой Марии?
– Не знаю, – отвечает он коротко. – Хотя нет, знаю. Тридцать два. Или тридцать три. В общем, неважно. Я же все равно не собираюсь на ней жениться.
– О боже, бедный мой мальчик, – жалуется Ягненок. – Разве такое бывает? Двадцать три и тридцать три?
– Конечно, такое бывает. И довольно часто, – говорит он угрюмо. – И если ты сейчас собираешься надо мной смеяться, то только попробуй…
– Но я же над тобой не смеюсь… Знаешь, мальчик мой, ты должен признать, что все это немного странно. Она ведь хорошая партия?
– Нет, в том-то и дело, – отвечает Пиннеберг. – Магазин уже не приносит много прибыли. Старый Кляйнхольц слишком много пьет, покупает слишком дорого и продает слишком дешево. А бизнес достанется его сынишке, ему пока всего десять лет. А Мария получит только пару тысяч марок, если вообще получит, и поэтому никто на нее и не зарится.
– Вот как дело обстоит, – говорит Ягненок. – И ты не хотел мне этого рассказывать? И поэтому ты тайно обвенчался, ехал с поднятым верхом и кольцом в кармане?
– Да, именно поэтому. О боже, Ягненочек, если они узнают, что я женат, они выгонят меня за неделю. А что тогда?
– Тогда ты снова пойдешь к Бергману!
– Но я даже не думал об этом! Слушай. – Он сглатывает, но потом все же говорит: – Бергман же меня предупреждал, что с Кляйнхольцем все пойдет наперекосяк. И потом он сказал: «Пиннеберг, вы снова придете ко мне! К кому вы пойдете в Духерове, как не к Бергману? Конечно, – сказал он, – вы снова придете ко мне, Пиннеберг, и я вас возьму. Но я заставлю вас хорошо попросить – как минимум месяц вы должны будете бегать в агентство по трудоустройству и просить у меня работу. За подобную наглость вы должны быть наказаны!» Так говорил Бергман, и теперь я не могу снова к нему идти. Я хочу, но не могу.
– Но если он прав? Ты же сам видишь, что он прав?
– Ягненок, – говорит Пиннеберг умоляюще, – пожалуйста, дорогая, Ягненочек, никогда не проси меня об этом. Да, конечно, он прав, и я был ослом, и носить пакеты мне было бы несложно. Если ты станешь долго уговаривать, я, конечно, пойду к нему, и он меня возьмет. И тогда и его жена, и другой продавец, этот дурак Мамлок, все время будут меня подкалывать и смеяться – этого я не смогу тебе простить.
– Нет. Нет. Я не прошу тебя об этом. Но ты не думаешь, что наш брак все равно выйдет наружу, даже если мы будем так осторожны?
– Это не должно выйти наружу! Это не должно выйти наружу! Я все сделал так, чтобы никто не узнал, – мы теперь живем на окраине, и в городе нас никто никогда не увидит вместе, а если мы действительно увидимся на улице, то мы даже не поздороваемся.
Ягненок некоторое время молчит, но затем все же говорит:
– Мы не можем здесь остаться, мальчик мой, ты же понимаешь это?
– Давай попробуем, Ягненок! – просит он. – Сначала всего на четырнадцать дней до первого числа. До первого мы все равно не можем съехать.
Она обдумывает это, прежде чем согласиться. Она заглядывает вниз в лестничный пролет, но там сейчас ничего не видно, слишком темно. Затем она вздыхает:
– Ну хорошо, я попробую, мальчик. Но ты же сам чувствуешь, что это ненадолго, что мы здесь никогда и ни за что не будем по-настоящему счастливы?
– Ах, спасибо, – говорит он. – Спасибо. А остальное как-нибудь приложится, обязательно приложится. Только бы не стать безработным!
– Да, лишь бы не стать, – соглашается она.
И затем они еще раз смотрят на луга, на эту тихую, освещенную луной землю и идут спать. Шторы им задергивать не нужно. Здесь нет соседей. Когда они засыпают, им кажется, что они слышат, как тихо плещется Штрела.
Что нам есть? С кем можно танцевать? И нужно ли теперь жениться?В понедельник утром Пиннеберги сидят за кофейным столом, глаза Ягненка сияют:
– Итак, сегодня, сегодня все начинается по-настоящему! – И, взглянув на страшную комнату: – Я справлюсь с этой старой рухлядью! – И, глядя в чашку: – Как тебе кофе? Двадцать пять процентов зерен!
– Ну, ты ведь помнишь…
– Да, мальчик мой, если мы хотим сэкономить…
На что Пиннеберг объясняет ей, что он всегда мог позволить себе «настоящий» кофе из зерен по утрам. А она отвечает, что он стоит в два раза больше, чем этот. А он говорит, что всегда слышал, что в браке жить дешевле, что еда для двоих в браке обходится дешевле, чем еда в гостинице для одного.
Завязывается долгая дискуссия, пока он не говорит:
– Черт возьми, мне нужно идти! Я побежал!
На пороге они прощаются. Он уже почти спустился по лестнице, как Ягненок закричала сверху:
– Мальчик мой, подожди, мальчик! Что мы вообще будем есть сегодня?
– Совершенно не важно, – звучит в ответ.
– Ну, пожалуйста, скажи что-нибудь… Я ведь совершенно ничего не знаю.
– Я тоже не знаю! – И дверь за ним захлопывается.
Она бросается к окну. Он уже уходит, сначала машет рукой, потом носовым платком, и она остается у окна так долго, пока он не проходит мимо газовой лампы и не исчезает за желтоватой стеной дома.
И вот теперь Ягненок впервые за свои двадцать два года может распоряжаться своим утром, квартирой и меню в одиночестве. Она берется за дело.
Тем временем на углу Главной улицы Пиннеберг встречает городского секретаря Кранца и вежливо его приветствует. Вдруг он с ужасом осознает: он поприветствовал его правой рукой, а на правой руке у него кольцо. Он надеется, что Кранц его не заметил. Пиннеберг снимает кольцо и осторожно прячет его в «секретное отделение» своего бумажника. Ему это не нравится, но что поделать, раз уж так надо.
Тем временем и его хозяин Эмиль Кляйнхольц уже встал. Просыпаться в их семье по утрам ни разу не весело, потому как прямо после сна все всегда в особенно плохом настроении и склонны говорить друг другу правду. Но понедельник утром обычно особенно ужасен – в воскресенье вечером отец семейства склонен к загулам, и по пробуждении домашние обязательно ему мстят. Жена Эмиля Кляйнхольца – фрау Эмилия Кляйнхольц – не отличается мягкостью – она укротила своего Эмиля настолько, насколько вообще возможно укротить мужчину. В последние несколько воскресений ей это удавалось особенно хорошо – фрау Эмилия просто заперла входную дверь в воскресенье вечером, угостила мужа на ужин стаканчиком пива и позже наливала ему коньяку для создания веселого настроения. Что-то вроде семейного вечера действительно состоялось: сынишка его копошился где-то в углу, женщины сидели за столом и рукодельничали (готовили приданое для Марии), а отец читал газету и время от времени говорил:
– Мать, дай мне еще одну.
На что фрау Кляйнхольц каждый раз отвечала:
– Отец, подумай о ребенке! – Но все равно наливала еще стаканчик (или нет, в зависимости от настроения мужа).
Так и прошел последний воскресный вечер, и все Кляйнхольцы легли спать около десяти. В одиннадцать фрау Кляйнхольц проснулась, в комнате было темно, она прислушалась.
Она слышит, как рядом храпит Мария, как в ногах отцовской кровати сопит сынишка, и только храп отца отсутствует в этом хоре.
Фрау Кляйнхольц проверяет под своей подушкой: ключ от дома на месте. Она включает свет: мужа нет. Фрау Кляйнхольц встает, проходится по квартире, спускается в подвал, выходит во двор, где у них находится туалет: ничего.
Наконец она замечает, что окно кабинета приоткрыто, а она точно его закрыла. Она всегда закрывает его на ночь.
Фрау Кляйнхольц кипит от злости: четверть бутылки коньяка, сифон пива – все зря! Она быстро одевается, накидывает свой фиолетовый ватный халат и идет искать мужа. Наверняка он на углу в пивной у Бруно, пропускает стаканчик.
Зерновой магазин Кляйнхольцев на рыночной площади – хорошая, солидная лавка. Эмиль владеет ей уже в третьем поколении. Дело было стабильным, надежным; это был бизнес, основанный на доверии, с тремя сотнями старых клиентов-фермеров и помещиков. Если Эмиль Кляйнхольц говорил: «Франц, это удобрение хорошее», то Франц не спрашивал о составе, а просто покупал, и оно действительно оказывалось очень хорошим.
Но у такого бизнеса есть один подвох: каждую сделку нужно «обмывать», торговля сама по себе требует поливки. Дело это пьяное. На каждую машину картошки, на каждый транспортный документ, на каждую расчетную ведомость: пиво, шнапс, коньяк. И это не так страшно, если жена хорошая, если есть домашний уют, единство, комфорт, но это практически невозможно, если жена вечно ругается.
Фрау Кляйнхольц ругалась с самого первого дня. Она знала, что это неправильно, но Эмилия была завистлива – сама она была бедной, как церковная мышь, но вот она вышла замуж за красивого, обеспеченного мужчину, отбив его у всех остальных. И вот уже тридцать четыре года брака она все так же скалит на него зубы и все так же борется за него, как в первый день.
Она шаркает в своих домашних тапочках, в халате до угла, к Бруно. Ее мужа там нет. Она могла бы вежливо спросить, был ли он здесь, но это не в ее характере, она осыпает трактирщика обвинениями:
– Поить пьяниц – это так просто подлость! Ну вы и подонки. Я буду жаловаться, это вы подстрекаете их к пьянству.
Старый Бруно с длинной бородой собственноручно выводит ее на улицу – она яростно вырывается из лап великана, но у него надежная хватка.
– Так-то, дамочка, – говорит он.
Она оказывается на улице. Это рыночная площадь маленького городка с булыжной мостовой, с двухэтажными домами, иногда фронтонами, иногда фасадами, выходящими на площадь, все занавешены, все темные. Только газовые фонари качаются и мерцают. Неужели он думает, что она отправится домой? Как бы не так! Чтобы Эмиль потом над ней издевался днями напролет, выставлял ее дурой – она искала его и не нашла. Ей нужно найти его сейчас же, вырвать его даже из самой пьяной компании – из самого прекрасного времяпрепровождения.
Из самого прекрасного времяпрепровождения!
Вдруг она понимает: в «Тиволи» сегодня танцы, Эмиль там. Он там! Вот он где!
И как есть, она идет через полгорода, в тапочках и халате, направляется в «Тиволи». Кассир клуба «Гармония» требует у нее марку за вход, она только спрашивает:
– Хочешь оплеуху?
И кассир больше ничего от нее не хочет.
Вот она стоит в танцевальном зале, сначала немного стесняясь, прячась за колонной, подглядывая, но потом уже вновь приходит в ярость. Там ее Эмиль, все еще красавец, с пышной светлой бородой, танцует с какой-то маленькой черной дрянью; она даже не знает ее, и если можно назвать это танцем – это пьяное спотыкание. Ее останавливает распорядитель:
– Милая дама! Прошу вас, милая дама!
А потом он понимает, что это стихийное бедствие, торнадо, извержение вулкана – что здесь люди бессильны. И он отступает. Между танцующими образуется проход; между двумя человеческими стенками она направляется к одной ничего не подозревающей паре, которая там беззаботно спотыкается и качается.
Он сразу получает оплеуху.
– О, моя сладкая! – восклицает он и еще не понимает, что происходит. А потом резко понимает…
Она знает, что теперь нужно уходить с достоинством, с гордостью. Она протягивает ему свою руку.
– Пора, Эмиль. Пойдем домой сейчас же.
И он идет с ней. Он неуклюже шаркает, держа ее за руку, из зала, неуклюже, как большой побитый пес, оглядывается еще раз на свою маленькую милую черненькую девушку, работницу на рамочной фабрике Штесселя, которой тоже не очень повезло в жизни и которая уж очень обрадовалась щедрому, бравому кавалеру. Кляйнхольцы уходят. Снаружи вдруг появляется такси – хозяин «Гармонии» хорошо понимает, что в таких случаях лучше вызывать такси как можно скорее.
Эмиль Кляйнхольц крепко засыпает уже в дороге и не просыпается, даже когда его жена с шофером заносят его в дом, укладывают в постель, в эту ненавистную супружескую постель, которую он покинул всего два часа назад с таким рвением. Он спит. А жена выключает свет и лежит некоторое время в темноте, а потом снова включает свет и смотрит на своего мужа, своего красивого, распутного, темноволосого мужа. Она видит под одутловатым бледным лицом черты того самого Эмиля, который когда-то добивался ее, полного тысячи ухищрений и шуток, всегда веселого, всегда нахального, ему никогда не приходило в голову просто полапать ее за грудь, хотя ему никогда не пришлось бы получать пощечину за это.
И насколько способен думать ее маленький глупый мозг, она вспоминает путь от тех времен до сегодняшнего дня: двое детей – одна некрасивая дочь, один угрюмый уродливый сын. Наполовину развалившийся бизнес, опустившийся муж – а она? А что же она?
Да, в конце концов, остается только плакать, и это можно сделать в темноте – свет можно и экономить, и так приходится платить слишком много. И тут она вдруг задумывается о том, сколько он снова сегодня потратил за эти два часа, – она снова включает свет и ищет его бумажник, пересчитывает купюры. Здесь, в темноте, она решает стать ласковее и терпимее с завтрашнего дня, она стонет и жалуется:
– Теперь уже ничего не поможет. Мне нужно держать его еще ближе!
А потом она снова плачет и, наконец, засыпает, как обычно засыпают после зубной боли или родов, после громкой ссоры и редкой большой радости.
Потом наступает первое пробуждение в пять часов, когда она быстро передает ключ от ларя с овсом приказчику, затем второе в шесть, когда стучится служанка и просит ключ от кладовой. Еще час сна! Еще час покоя! И потом третье окончательное пробуждение без пятнадцати семь: сыну нужно в школу, а муж все еще спит. Когда она снова заглядывает в спальню в восемь пятнадцать, его уже тошнило.
– Ты сам виноват, что все время пьешь, – говорит она и уходит.
Потом он подходит к кофейному столу, мрачный, молчаливый, опустошенный.
– Селедку, Мария. – Это все, что он говорит.
– Ты бы хоть немного постыдился, отец, так распутничать, – говорит Мария с укором, прежде чем пойти за селедкой.
– Черт возьми! – кричит он. – Ей пора выметаться из дома!
– Ты прав, отец, – успокаивает его жена. – Зачем тебе кормить этих троих голодранцев?
– Пиннеберг – лучший. Пиннеберг должен справиться! – говорит мужчина.
– Конечно. Просто закрути ему гайки.
– Уж об этом я позабочусь, – отвечает муж.
И затем он идет в контору, хозяин Иоганнеса Пиннеберга – господин, от которого зависит благополучие Ганнеса, Ягненка и еще не родившегося Малыша.
Начинается суета. Нацист Лаутербах, демонический Шульц и тайный муж попадают в беду.Служащий Лаутербах пришел в офис раньше всех: за пять минут до восьми. Но это не из-за преданности долгу, а из-за скуки. Этот маленький толстый румяный парень с огромными красными руками когда-то был сельскохозяйственным чиновником. Но в деревне ему не понравилось. Лаутербах уехал в город, поехал в Духеров к Эмилю Кляйнхольцу. Там он стал своего рода экспертом по семенам и удобрениям. Фермеры не слишком ему радовались, когда сдавали картошку.