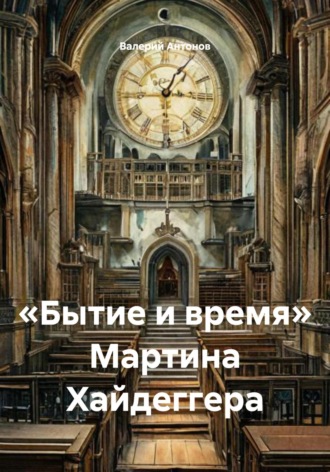
Полная версия
«Бытие и время» Мартина Хайдеггера
Ответ: Это то, что обычно не показывается, что скрыто за тем, что кажется очевидным, но при этом составляет его смысл и основание.
→ Комментарий:
Речь идет не о случайных свойствах вещей, а о бытии сущего (Sein des Seienden), которое обычно ускользает от взгляда, но определяет саму возможность явленности вещей.
5. Бытие как главный феномен
То, что остается скрытым или искаженным, – это не какое-то отдельное сущее, а бытие сущего (Sein des Seienden). Оно может быть настолько затемнено, что о нем забывают и даже не ставят вопрос о его смысле.
→ Комментарий:
Здесь Хайдеггер противопоставляет феномен (подлинное самораскрытие) и скрытость (Verdecktheit). Задача феноменологии – прорваться к бытию, которое обычно остается «за кадром».
6. Феноменология и онтология
Феноменология – это способ доступа к тому, что должно стать темой онтологии. Онтология возможна только как феноменология.
Феноменологическое понятие феномена означает:
– бытие сущего (Sein des Seienden),
– его смысл,
– его модификации и производные.
→ Комментарий:
Феноменология не изучает «явления» в противоположность «сущности» (как у Канта). Для Хайдеггера бытие само является феноменом – тем, что должно быть явлено.
7. Виды скрытости феноменов
Феномены могут быть скрыты разными способами:
1. Еще не открыты – о них нет ни знания, ни незнания.
2. Забыты – ранее были открыты, но снова погрузились в скрытость.
3. Искажены – кажутся чем-то другим (наиболее опасный случай, так как приводит к иллюзиям).
→ Комментарий:
Хайдеггер предупреждает: даже в искаженном виде феномены сохраняют связь с бытием («сколько видимости, столько и бытия»).
8. Феноменология как герменевтика
Методологический смысл феноменологического описания – интерпретация (Auslegung).
– Феноменология Dasein (бытия-вот) имеет характер ἑρμηνεύειν (истолкования).
– Она раскрывает смысл бытия и основные структуры Dasein.
– Таким образом, феноменология становится герменевтикой – учением об условиях возможности всякой онтологии.
→ Комментарий:
Хайдеггер переосмысляет герменевтику: это не просто метод толкования текстов, а способ раскрытия бытия через анализ человеческого существования.
9. Бытие как трансценденс
Бытие – это не род сущего, но оно касается всякого сущего. Его «универсальность» выше любой категории. Бытие – это transcendens (трансценденция) в абсолютном смысле.
→ Комментарий:
Трансценденция здесь – не выход за пределы опыта (как у Канта), а превосхождение сущего к его бытию.
10. Феноменология и философия
Онтология и феноменология – не две разные дисциплины, а сама философия, характеризуемая по своему предмету (бытие) и методу (феноменологическое раскрытие).
Философия – это универсальная феноменологическая онтология, основанная на герменевтике Dasein.
11. Влияние Гуссерля
Хайдеггер признает роль Гуссерля, чьи «Логические исследования» сделали прорыв в феноменологии. Однако суть феноменологии – не в том, чтобы быть «философским направлением», а в ее возможности как метода.
→ Комментарий:
Хайдеггер дистанцируется от гуссерлевской феноменологии сознания, переориентируя ее на вопрос о бытии.
12. Трудности выражения
Хайдеггер отмечает, что говорить о сущем и схватывать его бытие – разные вещи. Для последнего часто не хватает не только слов, но и «грамматики».
→ Комментарий:
Этим объясняется сложность его языка: традиционные понятия непригодны для анализа бытия, отсюда необходимость новой терминологии.
Заключение
Этот раздел закладывает основы хайдеггеровской феноменологии:
– Ее предмет – бытие сущего, обычно скрытое.
– Ее метод – не описание, а радикальное раскрытие через герменевтику Dasein.
– Ее цель – преодоление метафизики путем возврата к изначальному смыслу бытия.
Феноменология здесь – не просто «наука о явлениях», а путь к онтологическому основанию всей философии.
§8. План исследованияВопрос о смысле бытия есть вопрос наиболее универсальный и пустой; однако в нем же заложена возможность его собственного наиболее радикального обособления в направлении наличного присутствия (Dasein). Приобретение основополагающего понятия «бытие» и предварительное начертание требуемой им онтологической понятийности с ее необходимыми видоизменениями нуждаются в конкретной путеводной нити. Универсальности понятия бытия не противоречит «специальный» характер исследования – то есть продвижение к нему путем особой интерпретации определенного сущего, присутствия (Dasein), в котором должен быть обретен горизонт для понимания и возможного истолкования бытия. Это сущее само по себе «исторично», так что подлиннейшее онтологическое прояснение этого сущего необходимо становится «исторической» интерпретацией.
Разработка вопроса о бытии разветвляется, таким образом, на две задачи; им соответствует членение трактата на две части:
Первая часть: Истолкование присутствия (Dasein) на временность (Zeitlichkeit) и экспликация времени как трансцендентального горизонта вопроса о бытии.
Вторая часть: Основные черты феноменологической деструкции истории онтологии под путеводной нитью проблематики темпоральности (Temporalität).
Первая часть распадается на три раздела:
1. Подготовительный фундаментальный анализ присутствия (Dasein).
2. Присутствие (Dasein) и временность (Zeitlichkeit).
3. Время и бытие.
Вторая часть членяется также на три части:
1. Учение Канта о схематизме и времени как предварительная ступень проблематики темпоральности (Temporalität).
2. Онтологическое основание «cogito sum» Декарта и усвоение средневековой онтологии в проблематике «res cogitans».
3. Трактат Аристотеля о времени как водораздел феноменальной основы и границ античной онтологии.
Рекомендации к изучению "Бытия и времени" ХайдеггераДля глубокого изучения "Бытия и времени" Хайдеггера и его философии, особенно в контексте §8, рекомендую следующие источники, сгруппированные по категориям:
I. Основные тексты Хайдеггера (Обязательные):
1. "Бытие и время" (Sein und Zeit, 1927)
– Издания: В. Бибихин (Академический проект, 1997; 2011) – -канонический перевод-. Доп. издания: "Феноменология" (2015), "Владимир Даль" (2002).
– Рекомендация: Начните с Введения (§§1-8) и Первого раздела Первой части. Читайте медленно, с карандашом, ведя терминологический словарь. §8 – ключ к структуре всего труда.
2. "Основные проблемы феноменологии" (Die Grundprobleme der Phänomenologie, 1927)
– Пояснение: Лекционный курс, параллельный написанию "Бытия и времени". Углубляет темы времени, темпоральности, истории философии (особенно Канта, схоластики), прямо связанные со Второй частью, намеченной в §8.
– Рекомендация: Незаменим для понимания "неписанной" Второй части "Бытия и времени".
3. "Кант и проблема метафизики" (Kant und das Problem der Metaphysik, 1929)
– Пояснение: Хайдеггеровская интерпретация Канта (особенно трансцендентального воображения, схематизма, времени), соответствующая разделу 2.1 Второй части (§8).
– Рекомендация: Ключ к пониманию хайдеггеровского прочтения Канта как предшественника темпоральности.
4. "Пролегомены к истории понятия времени" (Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, 1925)
– Пояснение: Предшествующий лекционный курс, где впервые подробно разрабатываются темы Dasein, времени, истории философии (Декарт, Брентано, Гуссерль). Важен для генезиса идей "Бытия и времени".
– Рекомендация: Помогает увидеть становление ключевых понятий до их систематического изложения.
II. Ключевые Комментарии и Исследования (Русскоязычные):
1. Владимир Бибихин:
– "Дело Хайдеггера" – фундаментальный труд, сочетающий глубокий анализ с переводческими решениями. Незаменим для понимания терминологии и смысла.
– "Чтение философии" (разделы о Хайдеггере) – лекции, поясняющие сложные места.
– Рекомендация: Первоисточник для понимания Хайдеггера -на русском языке- от его главного переводчика.
2. Михаил Хайдеггер (младший):
– Комментарии и примечания в изданиях "Бытия и времени" под его редакцией ("Феноменология", 2015; "Владимир Даль", 2002). Крайне ценные терминологические и содержательные пояснения к тексту.
– Рекомендация: Обязательно используйте издания с его комментариями при чтении основного текста.
3. Алексей Черняков: "Онтология времени" (2003)
– Пояснение: Блестящее исследование темы времени у Хайдеггера (и Аристотеля, Канта, Гуссерля). Глубокий анализ темпоральности (Temporalität) как смысла бытия.
– Рекомендация: Ключевой источник для понимания центральной роли времени (§8 прямо указывает на это).
4. Сергей Борчиков: "Система философии" (и др. работы)
– Пояснение: Крупнейший современный русскоязычный исследователь Хайдеггера. Много работ, посвященных Dasein, времени, онтологии.
– Рекомендация: Ищите его статьи и монографии по конкретным аспектам (§8 затрагивает фундаментальную онтологию, историчность, метод).
III. Ключевые Комментарии и Исследования (Англоязычные – классика):
1. William J. Richardson: "Heidegger: Through Phenomenology to Thought" (1963)
– Пояснение: Классический, глубокий и структурированный комментарий ко всему пути Хайдеггера, включая детальный разбор "Бытия и времени". Одобрен самим Хайдеггером.
– Рекомендация: Незаменимая энциклопедия для серьезного изучения.
2. Hubert L. Dreyfus: "Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I" (1991)
– Пояснение: Очень влиятельный и доступный (насколько это возможно) комментарий к Первой части "Бытия и времени". Фокус на повседневности Dasein, практике.
– Рекомендация: Отличный "проводник" для Первой части (§8 намечает ее структуру).
3. Stephen Mulhall: "Heidegger and Being and Time" (Routledge Philosophy Guidebooks, 1996)
– Пояснение: Четкий, хорошо структурированный и относительно краткий обзор ключевых идей и аргументов "Бытия и времени".
– Рекомендация: Хорошая отправная точка для систематического знакомства.
4. Theodore Kisiel: "The Genesis of Heidegger's Being and Time" (1993)
– Пояснение: Фундаментальное исследование генезиса "Бытия и времени" на основе ранних лекций Хайдеггера (включая "Пролегомены").
– Рекомендация: Необходим для понимания -как- сложились идеи §8 и всего труда.
IV. Контекст и Предшественники (Критически важны для §8):
1. Аристотель: "Физика" (Кн. IV), "Метафизика" (особенно кн. VII, IX). Хайдеггер постоянно диалогирует с Аристотелем (см. §8, 2.3).
2. Декарт: "Размышления о первой философии". Ключевая фигура для критики (§8, 2.2).
3. Кант: "Критика чистого разума" (Трансцендентальная эстетика, Трансцендентальная аналитика, особенно Схематизм категорий). Централен для §8 (2.1).
4. Гуссерль: "Логические исследования", "Идеи к чистой феноменологии". Феноменология – метод Хайдеггера (§8 упоминает феноменологическую деструкцию). Понимание различий Гуссерль/Хайдеггер обязательно.
5. Дильтей, Кьеркегор: Идеи историчности, конечности, экзистенции оказали влияние.
V. Практические Рекомендации по Изучению:
1. Начните с §8: Он – карта всего произведения. Возвращайтесь к нему постоянно по мере чтения.
2. Создайте Терминологический Словарь: Dasein, Sein, Seiendes, Zeitlichkeit, Temporalität, Geschichtlichkeit, Existenzial, ontologisch, phänomenologisch, Destruktion, Horizont, Auslegung, Sorge и т.д. Фиксируйте -конкретные определения- Хайдеггера, а не общеупотребимые значения.
3. Читайте Медленно и Многократно: Хайдеггер требует вдумчивого чтения. Не ожидайте полного понимания с первого раза.
4. Сочетайте Основной Текст с Комментариями: Используйте Бибихина, Михаила Хайдеггера, Чернякова, Dreyfus, Mulhall параллельно с чтением "Бытия и времени". Не бойтесь обращаться к разным интерпретациям.
5. Изучайте Контекст: Без понимания Аристотеля, Декарта, Канта, Гуссерля многие аргументы и критика Хайдеггера (§8 прямо указывает на них) останутся непонятными.
6. Фокус на Первой Части: Глубокое понимание анализа Dasein (Разделы 1-3 Первой части) – абсолютно необходимое условие для (гипотетического) понимания Второй части и темпоральности как смысла бытия.
7. Используйте Академические Ресурсы: Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP), Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) – хорошие отправные точки для статей по Хайдеггеру и ключевым понятиям. Ищите статьи в научных журналах ("Логос", "Вопросы философии" и др.).
8. Обсуждайте: Поищите семинары, чтения, дискуссионные группы (онлайн или оффлайн). Обсуждение сложных мест неоценимо.
Ключевые Концепции §8 для Глубокого Анализа:
– Универсальность и "пустота" вопроса о бытии.
– Роль Dasein как "путеводной нити" и "специального" сущего.
– Понятие "горизонта" (Verständnishorizont) для бытия.
– Историчность (Geschichtlichkeit) Dasein и необходимость "исторической" интерпретации.
– Структура всего труда: Связь Dasein -> Временность (Zeitlichkeit) -> Время (Zeit) -> Бытие (Sein) (Первая часть); и Феноменологическая деструкция истории онтологии через темпоральность (Temporalität) (Вторая часть).
– Метод: Феноменологическая деструкция (Destruktion) как критическое раскрытие традиции.
Этот список дает прочную основу для углубленного изучения. Помните, что "Бытие и время" – труд, требующий длительного и интенсивного усилия мысли. Удачи на этом пути!
Первая часть: Интерпретация Dasein в аспекте временности и раскрытие времени как трансцендентального горизонта вопроса о бытии.
Часть первая. Интерпретация бытия-вот (Dasein) через временность и раскрытие времени как трансцендентального горизонта вопроса о бытии
Хайдеггер исследует, как временность (Zeitlichkeit) Dasein формирует основу для понимания бытия.
Структура первой части:
1. Предварительный фундаментальный анализ Dasein.
2. Dasein и временность.
3. Время и бытие.
Раздел первый. Подготовительный фундаментальный анализ бытия-вот (Dasein)
Первичным объектом исследования в вопросе о смысле бытия является сущее, обладающее характером бытия-вот (Dasein). Подготовительный экзистенциальный анализ Dasein, в соответствии со своей спецификой, требует предварительного разъяснения и отграничения от исследований, которые лишь кажутся схожими (Глава 1). Удерживая заданный подход, необходимо выявить фундаментальную структуру Dasein: бытие-в-мире (In-der-Welt-sein) (Глава 2). Это «априори» истолкования Dasein – не составная характеристика, а изначально и постоянно целостная структура. Однако она открывает различные аспекты своих составляющих моментов. При постоянном удержании в поле зрения этого целого, эти моменты должны быть феноменологически выделены. Таким образом, объектами анализа становятся:
– мир в его мирности (Weltlichkeit) (Глава 3),
– бытие-в-мире как бытие-с-другими и бытие-само (Mit- und Selbstsein) (Глава 4),
– бытие-в (In-sein) как таковое (Глава 5).
На основе анализа этой фундаментальной структуры становится возможным предварительное указание на бытие Dasein. Его экзистенциальный смысл – забота (Sorge) (Глава 6).
Глава 1. Разъяснение задачи подготовительного анализа Dasein
§9. Тематика анализа DaseinСущее, которое подлежит анализу, – это мы сами. Бытие этого сущего всегда мое. В бытии этого сущего оно само относится к своему бытию. Как сущее этого бытия, оно вверено своему собственному бытию. Бытие – это то, о чем заботится это сущее. Из этой характеристики Dasein вытекает двойственность:
1. «Сущность» этого сущего заключается в его «бытии-к» (Zu-sein). Его «что-бытие» (essentia), если о нем вообще можно говорить, должно пониматься исходя из его бытия (existentia). При этом именно онтологическая задача состоит в том, чтобы показать: если мы выбираем для бытия этого сущего термин «экзистенция», то этот термин не имеет и не может иметь традиционного онтологического значения термина existentia. В онтологии existentia означает наличность (Vorhandensein) – способ бытия, который по своей сути не присущ сущему с характером Dasein. Чтобы избежать путаницы, мы будем использовать для existentia интерпретирующее выражение «наличность», а термин «экзистенция» оставим исключительно для бытийной определенности Dasein.
«Сущность» Dasein заключается в его экзистенции. Поэтому характеристики, которые можно выделить у этого сущего, – это не наличные «свойства» чего-то, что «выглядит» так-то и так-то, а возможные для него способы бытия, и только они. Всякое «так-бытие» этого сущего – прежде всего бытие. Поэтому название «Dasein», которым мы обозначаем это сущее, выражает не его «что» (как «стол», «дом», «дерево»), а бытие.
2. Бытие, о котором заботится это сущее, всегда мое. Поэтому Dasein никогда нельзя онтологически понимать как случай или экземпляр рода сущего в смысле наличного. Для этого сущего его бытие «безразлично», но при ближайшем рассмотрении оно «есть» так, что его бытие не может быть ни безразличным, ни небезразличным. Обращение к Dasein, учитывая характер принадлежности-мне (Jemeinigkeit) этого сущего, всегда должно включать личное местоимение: «я есмь», «ты еси».
При этом Dasein всегда уже каким-то образом решило, каким образом оно будет моим. Сущее, для которого в его бытии важно само это бытие, относится к своему бытию как к своей собственной возможности. Dasein есть всегда своя возможность, а не просто «обладает» ею как свойством наличного сущего. И поскольку Dasein по своей сути всегда есть своя возможность, это сущее в своем бытии может «выбирать» себя, обретать себя или терять, либо никогда не обретать по-настоящему, а лишь «казаться» обретшим. Оно может потерять себя или еще не обрести лишь постольку, поскольку по своей сути оно есть возможность подлинного бытия, то есть бытия, принадлежащего себе.
Два модуса бытия – подлинность (Eigentlichkeit) и неподлинность (Uneigentlichkeit) (эти термины выбраны строго в их буквальном значении) – коренятся в том, что Dasein в целом определяется принадлежностью-мне. Однако неподлинность Dasein не означает «меньшего» бытия или «низшей» степени бытия. Напротив, неподлинность может определять Dasein в его полнейшей конкретности – в его деловитости, возбужденности, заинтересованности, способности к наслаждению.
Две очерченные характеристики Dasein – примат экзистенции перед сущностью и принадлежность-мне – уже указывают на то, что анализ этого сущего ставит перед нами уникальную феноменальную область. Это сущее не обладает и никогда не обладает способом бытия внутримирно наличного. Поэтому его нельзя тематически задать так же, как наличное. Правильная постановка вопроса о нем сама по себе настолько неочевидна, что ее определение составляет существенную часть онтологического анализа этого сущего. От успешного выполнения этой задачи зависит сама возможность понять бытие этого сущего. Даже если анализ носит предварительный характер, он уже требует обеспечения правильного подхода.
Dasein определяется как сущее, которое всегда исходит из возможности, которой оно является и которую оно так или иначе понимает в своем бытии. Это формальный смысл экзистенциальной конституции Dasein. Для онтологической интерпретации этого сущего отсюда следует указание: разрабатывать проблематику его бытия исходя из экзистенциальности его экзистенции. Однако это не означает, что Dasein нужно конструировать из какой-то конкретной возможной идеи экзистенции. Напротив, анализ должен раскрыть Dasein не в различии определенного существования, а в его безразличном «первоначально и по большей части».
Эта безразличность повседневности Dasein – не ничто, а позитивный феноменальный характер этого сущего. Из этого способа бытия и возвращаясь в него, существует все существующее. Мы называем эту повседневную безразличность Dasein усредненностью (Durchschnittlichkeit).
И поскольку усредненная повседневность составляет онтически первичное для этого сущего, она постоянно упускается при экспликации Dasein. Онтически ближайшее и знакомое оказывается онтологически самым далеким, непознанным и постоянно упускаемым в своем онтологическом значении. Когда Августин спрашивает: Quid autem propinquius meipso mihi? («Что ближе мне, чем я сам?») и вынужден ответить: ego certe laboro hic et laboro in meipso: factus sum mihi terra difficultatis et sudoris nimii («Я тружусь здесь и тружусь в себе самом: я стал для себя землей трудностей и чрезмерного пота»), это относится не только к онтической и доонтологической непроницаемости Dasein, но в еще большей степени – к онтологической задаче не просто не упустить это сущее в его феноменально ближайшем способе бытия, но и положительно охарактеризовать его.
Однако усредненную повседневность Dasein нельзя понимать как просто «аспект». Даже в ней, даже в модусе неподлинности, априори присутствует структура экзистенциальности. Даже в ней Dasein определенным образом заботится о своем бытии, к которому оно относится в модусе усредненной повседневности – пусть даже в модусе бегства от него и забвения себя.
Экспликация Dasein в его усредненной повседневности дает не просто «усредненные структуры» в смысле размытой неопределенности. То, что онтически существует в модусе усредненности, онтологически может быть схвачено в четких структурах, которые по своей сути не отличаются от онтологических определений, например, подлинного бытия Dasein.
Все экспликаты, возникающие в аналитике Dasein, получены с учетом его экзистенциальной структуры. Поскольку они определяются через экзистенциальность, мы называем бытийные характеристики Dasein экзистенциалами. Их необходимо строго отличать от бытийных определений сущего, не обладающего характером Dasein, которые мы называем категориями.
Здесь этот термин берется в его первичном онтологическом значении. Античная онтология брала за образец толкования бытия сущее, встречающееся внутри мира. Способ доступа к нему – voelv (умозрение) или λόγος (логос). В них сущее является. Однако бытие этого сущего должно быть схвачено в особом legeiv (умении показать), так чтобы это бытие заранее понималось как то, что оно есть и что уже есть в каждом сущем.
Предварительное именование бытия в высказывании (λόγος) о сущем – это κατηγορεῖσθαι (категоризация). Первоначально это означает: публично обвинять, прямо говорить кому-то что-то перед всеми. В онтологическом употреблении этот термин означает: прямо сказать сущему, что оно уже есть как сущее, то есть показать его бытие для всех.
То, что усматривается и может быть усмотрено в таком видении, – это категории (κατηγορίαι). Они охватывают априорные определения сущего, которое может быть темой высказывания (λόγος) различными способами.
Экзистенциалы и категории – это две основные возможности бытийных характеристик. Соответствующее им сущее требует различных способов первичного вопрошания: сущее есть либо «кто» (экзистенция), либо «что» (наличность в самом широком смысле). О связи этих двух модусов бытийных характеристик можно говорить только исходя из проясненного горизонта вопроса о бытии.
Во введении уже указывалось, что в экзистенциальной аналитике Dasein решается задача, чья важность немногим меньше, чем самого вопроса о бытии: раскрытие априори, которое должно быть видимо, чтобы философски обсуждать вопрос «что есть человек».
Экзистенциальная аналитика Dasein предшествует психологии, антропологии и тем более биологии. В отграничении от этих возможных исследований Dasein тематика аналитики может получить более четкие очертания. Ее необходимость при этом становится еще более очевидной.
Комментарии и пояснения.1. Dasein – ключевой термин Хайдеггера, который обычно не переводится, чтобы сохранить его специфику. Это сущее (человек), для которого бытие является вопросом.
2. Экзистенция vs. наличность – Хайдеггер противопоставляет экзистенцию (бытие Dasein как возможность) и наличность (бытие вещей как простое присутствие).
3. Подлинность и неподлинность – не оценочные понятия, а модусы бытия Dasein. Неподлинность – не «плохо», а способ существования в повседневности.
4. Экзистенциалы – бытийные структуры Dasein (например, забота, бытие-в-мире), в отличие от категорий (бытийных структур вещей).
5. Повседневность (Alltäglichkeit) – не «низшая» форма бытия, а исходный способ, в котором Dasein обычно находится.
6. Категории vs. экзистенциалы – античная философия (Аристотель) разрабатывала категории (например, сущность, количество), но Dasein требует нового языка (экзистенциалов).
§10. Разграничение анализа Dasein от антропологии, психологии и биологииПосле первоначального положительного наброска темы исследования его запретительная характеристика всегда сохраняет свою важность, хотя рассуждения о том, чего делать не следует, легко могут оказаться бесплодными. Необходимо показать, что прежние вопросы и исследования, направленные на Dasein, несмотря на их фактическую плодотворность, упускают подлинную, философскую проблему, а потому, пока они остаются в этом заблуждении, не могут претендовать на то, чтобы выполнить то, к чему они в принципе стремятся. Разграничение экзистенциальной аналитики от антропологии, психологии и биологии касается только принципиально онтологического вопроса. С точки зрения «теории науки» они неизбежно остаются недостаточными уже потому, что научная структура этих дисциплин – а не «научность» работающих над их развитием – сегодня в высшей степени проблематична и нуждается в новых импульсах, которые должны исходить из онтологической проблематики.











