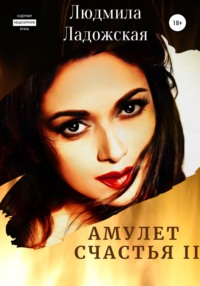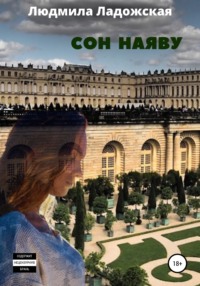Полная версия
Выстрел через время
– Не придут, Ян! – почти закричала Анна. – Не говори! Не накликай! – в ее голубых глазах стояли слезы страха. Страха за мужа с его лицом, за дочь с его лицом, за них всех.
– Придут – дадим отпор! – снова, с юношеским пылом, встряла Мария. – Как герои Гражданской! Как Чапаев!
– Да, дочка, как Чапаев… – прошептал Яков. Он взял свою крошечную рюмку с водкой, которую налил себе "для храбрости". Поднял. – За… за Чапаева. И за то, чтобы нам не пришлось быть героями. Просто жить. Просто… дожить, – он выпил залпом, морщась от горечи не только спирта.
Они сидели за столом, маленький островок света и тепла в холодной, темной Одессе, в огромной, тревожной стране. За окном падал снег, сметая следы на Мельничной. Где-то далеко гремели салюты в честь Нового года. Где-то, совсем недалеко, уже ковалась сталь для будущих сражений. А здесь, в домике на Молдаванке, под трепетным светом елочных свечей, люди пытались верить в завтра. Но страх, холодный и липкий, как одесский туман, уже прокрался в их праздник и поселился в углу, рядом с тенью от ветки елки, которая Яну вдруг показалась похожей на скрюченную свастику. 1940-й год входил в их жизнь не с надеждой, а с тяжелым, невысказанным вопросом: "Доживем ли мы до следующего?"
Молдаванка, осень 1940 года
Жаркое одесское лето 1940-го сменилось золотистой, но тревожной осенью. Воздух на Мельничной улице был густ от запаха перезревших фруктов с базара, пыли и вездесущей вяленой тараньки. В доме Стержицких жизнь билась в ритме выживания и постоянной настороженности.
Ян вернулся с работы в артели позже обычного. Он казался еще более изможденным, чем в новогоднюю ночь. Посеревшие виски уже резче контрастировали с все еще густыми черными, но тусклыми волосами. Темные глаза, глубоко запавшие, обрели привычку бегать по сторонам даже в собственном дворе. Его смуглое, типично еврейское лицо, несмотря на псевдопольскую легенду, было вечным источником страха. Он снял потрепанный пиджак, под которым виднелась простая рабочая рубаха, заляпанная мельчайшей золотой пылью – невидимая метка ювелира в артели, где он значился лишь подмастерьем-поляком. Руки, тонкие и цепкие, дрожали от усталости и нервного напряжения.
– Добрый вечер, Ян? Как на работе? – спросила Анна, не отрываясь от штопки носков. Ее светлые волосы, собранные в тугой узел, тускнели от забот, но голубые глаза все еще сохраняли глубину, хотя и были подернуты пеленой неизбывной тревоги. На ней было выстиранное до белизны, но заштопанное платье. Теперь она штопала и носки Леси, потому что экономия стала законом жизни, хотя она и знала, что Яков припрятал кое-что из золота, привезенного из Польши.
– Работа… Работа есть, – буркнул Яков, опускаясь на табурет у печи. Он избегал прямого взгляда. – Заказ на значки… к очередной годовщине. Но глаз дерут. Каждый опилок – на учете. Чекист новый приставлен, Семенов. Глаза у него, как буравчики. Он потер переносицу
Сара вышла из своей комнаты, вытащила из печи чугунок с борщом и поставила на стол. Она заметно похудела, ее доброе, когда-то яркое и жизнерадостное лицо осунулось, но руки, вечно занятые делом, двигались по-прежнему ловко.
– Карточки отоварила. Муки – в обрез. Селедки две… масла – вот с ноготок, – она показала крошечный кусочек в бумажке. С января 1940 года в Одессе, как и по всему Союзу, были введены продовольственные карточки на хлеб, сахар, крупу, масло, мясо. Очереди за пайком стали еще одним ежедневным испытанием, местом скуки, сплетен и страха быть замеченным не в том районе.
– А Мария где? – спросил Яков, пытаясь перевести разговор с еды и работы.
– В консерватории. Говорит, репетируют что-то грандиозное к 7 ноября, – ответила Анна. Ее голос дрогнул. Гордость за дочь боролся со страхом. Каждый выход Марии из дома, каждый ее путь в центр на Пироговскую, 11, был игрой с судьбой. Ее светловолосая, сероглазая красота и отточенные манеры – результат упорной работы над легендой и природных данных – были идеальным камуфляжем. Но Яков каждый раз ловил себя на мысли: "А вдруг кто-то из Варшавы? Вдруг заподозрят"…
Мария действительно была в консерватории. В просторном, но уже потертом классе, за роялем с чуть расстроенными басами. Она разучивала сложный пассаж. Ее светлые волосы были убраны безупречно, простое платье сидело на ней с достоинством. Серые глаза, в глубине которых лежала тень, были сосредоточены на нотах. Консерваторская жизнь была островком иной реальности: здесь говорили о Шопене и Чайковском, о технике дыхания и конкурсах. Но и сюда проникала действительность: портреты Сталина и Ворошилова в фойе, обязательные политзанятия о "вероломстве империалистов", шепотки о "чистках" среди профессоров старой школы. Ее подруга Фрося частенько жаловалась: "Машка, ну что за жизнь? Утром – карточку на хлеб отстоять, вечером – гаммы играть. И все боятся… Боятся всего!"
Дома, в своем закутке за занавеской, Мария иногда тихо плакала от напряжения и страха за семью.
– Леся, убирай со стола уроки, – сказала Анна дочери. – Ужинать будем.
Девочка тряханула своими темными кудрями, тень от которых падала на тетрадь и, как по команде закончила писанину, будто только этого и ждала. Ямочка на подбородке стала заметнее. Большие карие глаза, точь-в-точь, как у Яна, были серьезны. Она старалась учиться хорошо, понимая смутно, что это может быть важно. Теперь она взрослела очень быстро в тени страха, ведь ее детство закончилось еще в июле 1939 года.
Нотан вернулся из мастерской последним. Его крепкая фигура как-то ссутулилась, упрямый подбородок был небрит.
– Шинелей – вал! Офицерских. Срочно. Как на пожар! – он бросил потрепанную папку на стол. – Заказы военные идут потоком. Это… это не к добру, – в его голосе, обычно таком уверенном, звучала тревога. – После ужина спать, а завтра пораньше на работу.
Швейная мастерская Нотана и Сары работала на износ, выполняя госзаказы. Прибыль была, но каждый военный заказ был зловещим напоминанием.
Ужин был скудным: борщ, кусок черного хлеба по карточкам, вареная картошка. Молчание прервал Нотан, понизив голос почти до шепота:
– Слышал на базаре от матроса… Немцы в Бухаресте. Целая дивизия. И техника – танки, пушки. Наши пограничники на Днестре – в ушах звенит от их моторов.
Ян побледнел. Его вилка звякнула о тарелку.
– Значит… Он поворачивается к нам. Польша, Франция… Теперь к нам лицом.
– Ян, не надо! – Анна схватила его за руку. Ее голубые глаза были полны ужаса. – Они не посмеют… Пакт о ненападении…
– Не посмеют? – мужчина горько усмехнулся. "Они вже тут, Аннушка! За Дністром. Дихають нам у потилицю. І що нас врятує? Червона Армія? Сталін? Чи наші… папери? – он презрительно ткнул пальцем в сторону сундука, где лежали их фальшивые польские паспорта.
– Папа, я выучусь, я стану знаменитой певицей! Я буду петь для всех, и война не начнется! – вскрикнула Мария, но в ее голосе была уже не прежняя юношеская уверенность, а отчаянная надежда.
– Молчи, Маша! – резко оборвал ее Ян. – Твои песни… они могут привлечь внимание. Лучше будь тише воды…
Лейка прижалась к Анне.
– Мама, а немцы… они ведь не придут сюда? Правда? – ее темные, как у отца, глаза, полные слез, искали утешения.
Анна обняла дочь, прижав ее темную головку к своей груди.
– Нет, солнышко, не придут. Мы… мы в безопасности. Товарищ Сталин не допустит…, – но слова звучали пусто. Она сама не верила.
Сара тихо заплакала, уткнувшись в плечо Нотану. Он обнял жену, его лицо было каменным. В горнице было душно от печки и страха. Тень от керосиновой лампы дрожала на стене, напоминая Яну ту самую, зловещую новогоднюю тень. Только теперь она была четче, чернее и неумолимее. 1940-й год подходил к концу, не принеся облегчения. Он принес только ощущение приближающейся грозы, тяжелой и беспощадной. Они пережили год в Одессе. Им предстояло встретить 1941-й. Подступающий с запада гул немецких моторов уже не казался плодом воображения. Выживание становилось их единственной профессией, а Одесса – хрупким убежищем на краю пропасти.
Одесса, консерватория, январь 1941 года
Ледяной ветер с моря скользил по заиндевевшим окнам консерватории, оставляя причудливые узоры на стеклах. В коридорах пахло дезинфекцией, дешевым табаком и воском натертых паркетов. Мария, закутавшись в старенький шерстяной платок, торопливо перебирала ноты в своем изношенном портфеле. Сегодня у нее был экзамен по сольфеджио, а в кармане всего две карточки на хлеб до конца месяца.
– Марийка, замерзла?
Она вздрогнула. За ее спиной стоял Яша Борейко, высокий, в потрепанном, но аккуратно заштопанном пальто, с контрабасом за спиной. Его карие глаза смеялись, а щеки горели румянцем от мороза. В руке он держал что-то, завернутое в газету.
– Яша, мне некогда…
– Знаю, знаю, экзамен. – Он перехватил ее портфель, не дав возразить. – Но сначала согрейся.
Развернув газету, он протянул ей половинку замерзшего мандарина.
Мария ахнула. Цитрусовые в январе 1941-го были неслыханной роскошью.
– Откуда?!
– Моряки греческие в порту менялись. – Он хитро подмигнул. – Контрабас – не только для музыки хорош. Иногда и для… переговоров.
Она хотела отказаться, но аромат мандарина пересилил гордость. Кисло-сладкий вкус взорвался на языке, напомнив о довоенных зимах, когда такие вещи не были чудом.
– Яша, это же опасно…
– Для тебя – нет. – Он вдруг стал серьезен. – Ты же знаешь, что я…
Громкий кашель из-за угла прервал его. По коридору шел завуч по идеологии, товарищ Руденко, с папкой под мышкой. Яша мгновенно сунул остатки мандарина в карман, приняв безобидное выражение лица.
– Товарищ Стержицкая, Борейко, не задерживайтесь в коридорах!
– Так точно, товарищ преподаватель! – бодро ответил Яша, щелкнув каблуками.
Когда Руденко удалился, он вытащил из внутреннего кармана еще один мандарин, целый.
– Это тебе. Спрячь. И… – он наклонился ближе, – в субботу в филармонии играют Шопена. У меня билеты. Пойдешь?
Мария покраснела.
– Яша, мы не можем…
– Можем. – Он вдруг взял ее руку, на мгновение. – Пока играет музыка – можем. Давай послушаем Шопена, а?
Его пальцы были теплыми, несмотря на мороз за окнами.
Вальс и запретный джаз
Снег кружился за высокими окнами филармонии, оседая на плечах прохожих. Мария ежилась в своем единственном приличном платье – синем шерстяном, перешитом из тети Сариного. В руках она сжимала программку с золотым тиснением: "Шопен. Ноктюрны. Солистка – заслуженная артистка УССР".
Яша появился внезапно, как всегда из толпы, в новом темно-зеленом пиджаке, пахнущем морозом и дорогим одеколоном.
– Прости, задержался, – прошептал он, подавая ей маленькую коробочку.
Внутри лежала шоколадная конфета в золотой фольге.
– Яша! – она ахнула.
– Тсс! – он приложил палец к губам. – Это не от меня. Это… от Шопена. Говорят, он любил шоколад.
Концерт был волшебным. Но самое неожиданное случилось после.
– Пойдем, – схватил ее за руку Яша, когда зал опустел.
Он провел ее через служебный вход в подвал филармонии, где среди старых декораций собрались несколько студентов. Кто-то настраивал саксофон, девушка с рыжими кудрями пробовала голос: "My baby just cares for me…"
– Яша, это же…
– Джаз, – он ухмыльнулся. – Запрещенный, чертовски красивый и совершенно секретный.
Когда заиграли, он вдруг обнял ее за талию и закружил в танце под чужой ритм.
– Мы не умеем! – засмеялась Мария.
– Врет твой рояль, мы – умеем!
В подвале пахло пылью, вином и свободой. Так закрутился роман между Яшей и Марией – тонкий и слегка уловимый.
Тюльпаны в марте
Яша стоял под ее окном в шесть утра. В руках – букет алых тюльпанов, завернутых в газету "Правда".
– Откуда?! – выскочив на крыльцо, чтобы не разбудить остальных, шепотом спросила Мария.
– Вырастил сам, – соврал он безбожно.
Тюльпаны пахли весной и чем-то еще – может быть, опасностью. Ведь цветы в марте доставались только женам партработников.
Он полез в карман:
– Держи еще.
Это была открытка с Эдит Пиаф, купленная у моряка с французского судна.
– Яша, тебя же арестуют!
– Только если ты меня не поцелуешь, – шепнул он, подставив щеку.
Мария смущенно улыбнулась и быстро исчезла в дверях дома, успев прошептать: «В четыре на нашем месте!» Ей нравился Яша. Он был симпатичным, сдержанным к ней. Его ухаживания и мелкие подарки напоминали о спокойном времени, о ее счастливой жизни в Варшаве. Но чувств, на которые он так надеялся, она к нему не испытывала, за что очень часто огребала от Фроси, что дурит парню голову.
Вор с хорошими манерами
Апрельское солнце уже припекало по-летнему, отражаясь в лужах после ночного дождя. Воздух пах свежей булкой с Привоза, морем и едва уловимым ароматом цветущих каштанов где-то в районе Соборной площади.
Мария и Фрося шли по мостовой, обходя трамвайные рельсы, блестевшие, как серебряные нитки.
– Ну и что, что опоздаем? – Фрося с наслаждением растягивала жевательную резинку, купленную у моряка за две копейки. – У Петрова температура второй день, все равно не услышит, как мы фальшивим. Зачем ходит на работу?
Мария поправляла белый воротничок своего скромного ситцевого платья, нервно подергивая коричневую сумочку-конверт с нотами:
– А вдруг экзаменационная комиссия?..
– Тогда споем про "счастливую советскую молодежь" – сразу "отлично" поставят, – фыркнула Фрося. – Нас бы предупредили за комиссию!
В этот момент из-за угла пивной лавки №3, где официально продавали только безалкогольный квас, но все знали, что старик Беркович под столом держит бутылки "Жигулевского", донесся хохот.
У чугунного фонаря стояла кучка парней. Трое в закатанных по локоть тельняшках, ни дать, ни взять портовая братва, один в клетчатой кепке-восьмиклинке, ну, точно, спекулянт с рынка и… он. Высокий, в кричаще-коричневом пиджаке, наброшенном на матросскую тельняшку. Черные брюки-дудочки, лакированные туфли, похоже "трофейные" с чужой ноги и финка в кожаном чехле у пояса "для красоты", как объяснил позже.
– Фрось, это про того вора говорили, что выпустили и Молдаванке надо закрывать дома на три замка? – прошептала Мария, замедляя шаг.
Мишка, он же Михаил Ефимович Баранов, 25 лет, три судимости, последняя за "незаконное предпринимательство", то есть продажу американских сигарет возле Оперного, повернул голову. Зеленые глаза, вьющиеся темные волосы, слегка кривой нос, последствия последней драки в тюрьме, и улыбка – наглая, но обаятельная, как у кота, укравшего сметану.
– Девчата! – крикнул он, снимая фуражку-капитанку, краденую, как позже выяснилось, и делая театральный поклон. – Вы, случаем, не ангелы? А то у меня тут рай в кармане закончился…
Парни заржали. Фрося фыркнула. Мария покраснела до корней волос.
– Мы… мы в консерваторию, – пробормотала она, ускоряя шаг.
Мишка ловко шагнул вперед, перегородив дорогу, но не касаясь по правилу воровской вежливости.
– Михаил Баранов. Музыку обожаю. Особенно… – он нарочито медленно оглядел Марию с ног до головы, – …скрипку. Голос у нее высокий, нежный… и очень нервный, если не так держать.
Фрося закатила глаза:
– Ой, да иди ты…
– Иду! – весело согласился Мишка. – Прямо за вами. А то я, понимаешь, в тюрьме теорию музыки изучал, а теперь практику наверстываю.
И он действительно пошел рядом, размахивая фуражкой и рассказывая, как в Бутырке сидел с бывшим скрипачом Одесского оперного, который научил его насвистывать Моцарта.
Проводы с приключениями
Мария вышла из консерватории, поправляя сумку с нотами. Весенний ветерок играл с её светлыми прядями, выбившимися из-под скромного берета. Вдруг из-за колонны, как чёрт из табакерки, выскочил Мишка Баранов. На этот раз он был одет с претензией на "интеллигентность": клетчатый чистый пиджак, явно с чужого плеча, чистый, белая рубашка с чуть потертым воротничком, брюки с лампасами, судя по всему «трофейные" от какого-то дипломата. В руке он держал надкусанную булку "бородинского".
– Маруська! Тебе повезло – я как раз шел мимо! – крикнул он, размахивая хлебом так, что крошки летели во все стороны.
Девушка остановилась и вопросительно на него посмотрела.
– Та, я все про тебя уже знаю! – махнул он рукой и рассмеялся. – У тебя не соседи, а инормбюро!
– Михаил, я домой спешу…
– Ну вот и отлично! – перебил он, ловко подхватывая её сумку. – Я как раз в ту сторону. А то тут, понимаешь, один тип в тельняшке за мной второй день ходит – думаю, или мент, или ревнует кто-то.
Всю дорогу Мишка развлекал ее разными историями.
– В тюрьме у нас, между прочим, хор был! Я вторым тенором пел. Пока начальник не узнал, что мы вместо "Интернационала" "Мурку" репетируем…
У Староконного он купил у старушки две жареные семечки в буквальном смысле и торжественно вручил Марии:
– Держи, это тебе на ужин. Только не съешь сразу – растяни на неделю!
– У Вас шутки не веселые, Михаил, – резко ответила Мария и посмотрела в его добродушные веселые глаза.
– Согласен! Прости! Не имею опыта общаться с такими барышнями, как ты! Но исправлюсь!
Так они дошли до Мельничной, где сосед Фимка – маленький, юркий человечек в растянутом свитере и стоптанных тапочках "случайно" поливал кусты именно в этот момент.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.