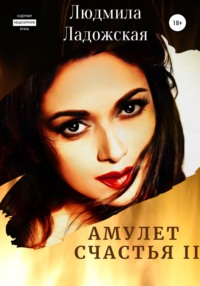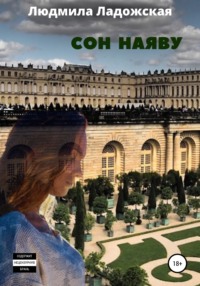Полная версия
Выстрел через время

Людмила Ладожская
Выстрел через время
Утро на Мазовецкой улице
Варшава, июль 1939 года. Воздух в городе был полон беспокойства, почти ощутимого на вкус, напоминающий металлический привкус перед бурей. На улице Мазовецкой, где ящики с фруктами и свежими булочками стояли перед магазинами, а старые здания с треснувшими фасадами, казалось, хранили все тайны этого города, Яков Штерн закрыл свою ювелирную лавку, расположенную на первом этаже, которая была его миром, его маленьким космосом. Однако утром, прежде чем начать работу, Яков всегда заходил к своему другу Леве, владельцу кафе, расположенному по той же улице. Для него это был своего рода ритуал – чашка чёрного кофе, несколько слов с друзьями, которые с годами становились всё более редкими, ну, и, конечно, новости.
Яков был среднего роста с ярко выраженными еврейскими чертами. Его лицо, узкое и немного продолговатое, было подёрнуто морщинами, но их было мало для того, чтобы скрыть то, что пронёс он за свою жизнь. Густые волосы с лёгкой сединой ещё недавно были тёмными, но теперь заметно поседели, как и его усы – тонкие, строгие, отражающие его внутреннюю решимость. Яков носил тёмно-синий костюм с жилетом, который, казалось, был чуть ярче, чем сама реальность, и чёрный галстук, почти всегда слегка взъерошенный, что добавляло ему естественного обаяния. Его глаза, тёмные и немного задумчивые, как два маленьких зеркала, отражали всю тревогу, в которой он жил последние месяцы. А сегодня они были особенно мрачными и усталыми.
Он вошёл в кафе, чувствуя витающий запах подгорелого хлеба и свежего кофе. Лева сидел за столом, облокотившись на газету. Он был намного старше Якова, с волосами, которые уже давно потеряли всякий цвет, и густыми всегда нахмуренными бровями.
– Доброе утро, Яков, – тихо сказал Лева, не поднимая глаз. – Что, снова через чашку кофе будем спасать мир?
Яков улыбнулся, присаживаясь рядом, взяв в руку чашку. Он обычно не любил много говорить на эти темы. Предпочитал слушать. Но сегодня его мысли были ясными и тяжёлыми, как отполированные речные булыжники – холодные, гладкие и давящие грузом неоспоримой истины.
– Думаю, нас никто не спасёт, – ответил он, с усмешкой. – Впрочем, как всегда. Так что давай, Лева, рассказывай, что нового?
За столом сидели ещё несколько мужчин. Их разговоры смешивались в один гул, и каждый пытался донести до других свои опасения, свои переживания. Один из них, Шломо, усмехнулся, нервно покачивая головой.
– А что тут скажешь, Яков? Польша действительно похожа на рождественский пирог. Стоит на столе, медленно остывает и ожидает своей участи, – сказал он. В голосе его сквозила ирония, но в глазах скрывался страх. – И два голодных соседа, Гитлер и Сталин. Сидят под этим столом и точат ножи, не обращая на нас внимания.
– Мы, как пирог? – проговорил другой мужчина, похожий на торговца. – Вот это ты загнул, Шломо! Да, мы тут ещё живые!
Шломо махнул рукой, почти не замечая своего собеседника.
– Да тут все, как на ладони. Немцы кричат: «Данциг наш, и коридор тоже!», а советы тихо улыбаются, поглядывая на восточные польские земли. Я понимаю, Гитлер, он точно захочет захватить всё, что можно. А вот Сталин, с его улыбкой, даже где-то и опаснее.
Яков задумчиво посмотрел на чашку. Его пальцы нервно отбивали чечетку о ее край. Ожидание было слишком острым, как режущий нож.
– Да, что тут скажешь. Вы все правы, – сказал он наконец. Его голос был тихим, но твёрдым. – Но вот интересно: как думаете, что с нами будет, если они начнут делить нас, как этот пирог? Мы тут с Гитлером на стороне, и с Советами тоже вроде, как по соседству, но всё равно – нам-то что делать?
– А поляки говорят, что нас с союзниками не тронут! – добавил другой мужчина, с болезненным смехом. – Британия, Франция, нам помогут? Да они все в своей политике утонули так, что не видят, что у нас под носом надвигается настоящая буря!
Шломо вновь вздохнул.
– Как бы понять, где правда, Яков. Все чувствуют, что война не за горами, только вот никто не хочет это признать вслух. Мы сидим и тянем время, думая, что, может, всё будет хорошо. Но… может, они нас захватят с двух сторон. Прямо как в том сне, а?
Яков сжался. В голове всплыли рассказы беженцев из Германии. И было очевидно, что война, к которой все привыкли, как к темному облаку, что висит на горизонте, вот-вот разразится.
– Они хотят Львов, – сказал он, резко прерывая тишину, которая опустилась на стол. – Сталин ещё в прошлом году писал письма, как он планирует расширять границы. Нам нужно быть готовыми.
– Сильно ты говоришь, – сказал Лева, наклоняясь вперёд, – но что мы можем сделать? Сидеть и надеяться, что нас не затронет этот огонь?
– Это не поможет, Лева, – прошептал Яков. Его взгляд стал более серьёзным. – Нам надо действовать, или мы потеряем всё.
Мужчины обменялись взглядами, но никто больше ничего не сказал. В воздухе снова витал тот же запах, как если бы сама Земля предчувствовала грядущую бурю. Гитлер и Сталин стояли под столом, готовые разделить Польшу. А Варшава, с её улицами, кафе и людьми, думала, что ещё есть время, что ещё можно надеяться на союзников. Но всё уже было решено.
Воспоминая о Молдаванке
Яков Штерн вошёл в свою лавку, как обычно, чуть наклонившись под низкой притолокой и провёл пальцами по дереву двери, как по старому другу, с которым прожито полжизни. Просторная витрина притягивала солнечные лучи утреннего варшавского лета, заставляя украшения играть бликами на бархатных подставках. Здесь было тихо, почти свято. Запахи серебра, пыли и тонких масел витали в воздухе, как память. Он подошёл к верстаку у окна, сел на стул, надел лупу и принялся за работу. Пани Волынская заказала колье к именинам своей кошки. Эта богатая вдова с причудами, но с отменным вкусом была его постоянной клиенткой. Он аккуратно удерживал оправу в пальцах, вставляя алый гранат в центр подвески. Рядом на подушечке уже лежала готовая пара сережек, под которые он и мастерил колье.
Но мыслями Яков был далеко. Одесса…Молдаванка…улица Мельничная…Пыльные улочки, крики лавочников, запах горячих пирожков и дешёвого мыла. Он вспомнил тот дом на углу с обшарпанным фасадом и облетающей краской на ставнях. Родительский дом. Там отец – серьёзный, с чёткими чертами лица, пахнущий табаком и потом. Мать – тихая, с вечным платком на голове. И брат – суровый и вечно обиженный на Якова за его «мечты».
Он ушёл оттуда в 1911 году. Ушёл с тётей Хеленой, которая была чуть безрассудна, но верила в своего племянника. Она увезла его в Варшаву, чтобы он поступил в Академию изящных искусств. Яков тогда горел. Учился до полуночи, штудировал книги по технике гравировки, перспективе. Изучал польский язык – кропотливо, ежедневно, годами. Всё ради одного – поступить. Уровень В2 по польскому дался тяжело. Но он не отступил. Он составил портфолио с ювелирными эскизами и хранил в папке, которую бережно носил, как молитвенник.
И поступил. В тот день сердце его пело. Он, еврейский мальчишка с Молдаванки, стал студентом Академии. Он был страстным учеником, с упорством, граничащим с одержимостью. Тётя Хелена, сестра матери, устроила его подмастерьем в ювелирную лавку пана Ковальского – мастера старой закалки. У Ковальского он и увидел её.
Анна. Голубоглазая, светловолосая. Девушка с лицом Мадонны и глазами, полными тепла. Ей было всего 17. Она вошла в мастерскую, чтобы что-то передать отцу. Их взгляды встретились. И с того мгновения Яков знал, что она станет его женой. Год он добивался ее руки у пана Ковальского. И тот, наконец, уступил влюбленным и сдался. Анне пришлось пройти гиюр и принять веру мужа, хотя бы фиктивно.
Они поженились. Пан Ковальский предложил молодым остаться жить с ним – просторная квартира над лавкой вполне подходила. Яков с радостью согласился. Он продолжал набираться опыта у тестя. Анна училась в школе Малярства и Рисунка Милошевского. В ней было столько света и любви, что дом наполнялся музыкой даже в молчании.
Вскоре появилась Мирьям. Тонкая, как тростинка, такая же светловолосая, с глазами Анны, только серыми. Жизнь шла своим чередом. Умер отец Анны. Яков встал во главе его дела. Он уже был мастером. Через несколько лет родилась Лея. Копия Якова. Живая, неугомонная, дерзкая. Потом была боль. Анна снова забеременела. Мальчик. Но в родах он умер. Это опустошило их. Но Мирьям и Лея давали продолжение жизни. Сейчас Мирьям – взрослая, 18 лет, окончила первый курс консерватории. Фортепиано и вокал. А Лейка… той только десять. Но не ребёнок, а ураган!
Звякнула дверца, и Яков вышел из воспоминаний.
– Яков, – прозвучал нежный голос, как шёлк. – Пора обедать.
Он поднял глаза и увидел Анну. Она стояла у порога, как будто только что сошла с картины. Летний костюм – светлая юбка и тонкая кофточка с рукавом до локтя. Материя обнимала её фигуру, подчёркивая хрупкость и грацию. На шее золотая цепочка с кулоном-сердечком. Подарок Якова на пятую годовщину. Всегда скромная и светящаяся добротой. Она не спрашивала, что он делает. Она знала: он работает. И всегда знала, когда стоит прийти.
– Спасибо, милая, – тихо сказал он, вставая с рабочего места.
Он повернул табличку на двери: «Zamknięte» – «Закрыто». Анна взяла его под руку, и они вместе поднялись на второй этаж, туда, где пахло домашней едой, где звучал смех детей и где, несмотря ни на что, ещё можно было надеяться на лучшее.
За обедом
Летнее солнце мягко проникало сквозь белые занавески, играя золотыми лучиками на обеденном столе. На столе дымилось несколько блюд – чолнт, ароматный и густой, с кусочками говядины, фасолью и картофелем, кишке с луком и перцем, запечённая до хрустящей корочки, и любимый Мирьям кугел – сладковатая запеканка из лапши с корицей и изюмом. Всё пахло домом, теплом и чем-то очень надёжным, можно сказать, почти вечным.
Анна ловко наполняла тарелки, приговаривая с улыбкой:
– Мирьям, не ешь столько сладкого, сначала горячее. Лейка, хватит крутиться на стуле!
– Но мам, – протянула Лея, —а, папа сказал, что можно начать с kugel…
– Только потому, что папа тебя слишком любит, а ты вьешь из него веревки, – улыбнулась Анна и поцеловала дочь в макушку. Лея в ответ скривила смешную недовольную гримасску.
Мирьям, светловолосая красавица с серыми глазами, сидела напротив, в лёгком платье в мелкий синий горошек с белым кружевным воротником. Она неторопливо подносила ложку ко рту, задумчивая и грациозная. Лейка же, темноволосая кудряшка в светлом костюмчике, практически повторяющем мамин наряд, была полной противоположностью сестре: подвижная, вечно с вопросами. Но сейчас молчала, чувствуя в воздухе не приятное напряжение.
Анна села рядом с Яковом и, бросив на него внимательный взгляд, сказала:
– Ты с самого утра какой-то отрешённый, любимый. Скажи, что у тебя на уме?
Яков положил вилку, вытер губы салфеткой, провёл ладонью по подбородку и посмотрел в её глаза. Те самые – ясные, голубые, такие верящие в хорошее.
– Сегодня утром мы с Левой и Шломо говорили… обо всём этом, – тихо начал он. – О немцах, о границе, о Гитлере. О том, что творится с нашими братьями в Германии.
Анна нахмурилась.
– Яков, но ты же сам говорил, что Германия там. Здесь – Польша. У нас союзники. Я полька. Нас это не касается…
– Анна, – прервал он её мягко, но твёрдо. – Ты носишь мою фамилию. Ты – Штерн. У нас еврейская лавка. У нас – дети, на половину по крови – евреи. Не важно, кто ты по рождению. Если придут они – им будет всё равно. Ты же слышала, что они делают в Берлине: синагоги сожжены, лавки разграблены, людей уводят. А теперь они стоят у границы. И скоро могут войти сюда.
Анна замерла, глядя в его глаза.
– Но… мы ведь дома. Это наш дом, Яков. Тут всё. Тут лавка, тут девочки, воспоминания… Как можно всё бросить?
Яков сжал её руку.
– А если мы не бросим, то можем потерять больше. Ты боишься уехать в Одессу? Да, это не родина тебе. Но там мы хотя бы не на мушке.
Наступила тишина. Даже Лея перестала болтать ногами. Мирьям отложила ложку, прижала руки к груди и посмотрела на отца. Глаза её наполнились тревогой. Всё в ней было мамино, кроме этих серых, глубоких глаз, как у Якова.
– Папа… они и нас могут забрать? – тихо спросила она.
Яков многозначительно посмотрел на старшую дочь, потом на Анну и Лею. Он видел страх. Не панический, но тот, что проникает под кожу, как холод.
– Я не знаю, – честно ответил он. – Но и не хочу дожидаться, чтобы проверить.
Анна отодвинула тарелку, не притрагиваясь к еде.
– Я подумаю, – прошептала она. – Только давай пока не будем никому говорить о наших планах, хорошо?
Яков кивнул. Они сидели молча, каждый в своих мыслях. За окнами звенело варшавское лето. Звуки улицы были, как всегда живыми. Но в этой тишине за семейным столом уже чувствовался треск надвигающегося шторма.
Новости с рынка
На следующий день Анна вернулась с рынка неузнаваемой. Широкая соломенная шляпа соскользнула с её головы ещё в прихожей, авоська с овощами упала на пол, а сама она стояла, вцепившись в косяк двери кухни, как будто мир под ней пошатнулся.
– Анна? – Яков поднялся из-за стола. – Что случилось?
Она молча подошла, присела и устало уронила голову ему на плечо. И только через минуту, вздохнув, выговорила:
– Рахель Либман…
– Что с Рахель? – спросил он тревожно, вспоминая невысокую бойкую женщину с круглыми щеками и энергичными жестами, хозяйку лавки с тканями и женским платьем.
– Её сестра с мужем и двумя детьми… из Берлина. Приехали через Лодзь. Бежали, Яков. Бежали, как от огня, – голос Анны дрожал. – Он был врачом. Представь себе, уважаемый человек, работал в клинике десять лет. А потом – уволен. Без объяснений. Говорят, евреям теперь запрещено лечить арийцев. А она – фармацевт. Им не дали лицензии. Имущество арестовали. Квартира отдана каким-то нацистам. Деньги…. Счёт заморожен. Уехали с чемоданом… и всё.
Яков молча гладил её по спине.
– Они говорят, – продолжала Анна, отстранившись, – что уцелели только благодаря еврейской общине. И то – едва. Те, кто пытается остаться, становятся изгоями. Их публично унижают. Их дети не могут учиться. А те, кто уходит – теряют всё. Но это лучше, чем остаться.
Он вздохнул.
– Да, милая, такие вести в Варшаву приходят все чаще и чаще....
– Яков, она сказала, что если немцы войдут сюда, то мы будем следующими. Она сказала: лучше бежать, чем ждать, когда нас начнут резать по кусочку.
Яков встал и прошёлся по комнате. Его движения были точны, будто он шлифовал мысль, как алмаз.
– Я говорил. Мы должны подумать об Одессе.
Анна повернулась к нему. В её глазах была боль.
– А если Советы нас не примут? Что если нас, как поляков, как евреев, как "подозрительных", отправят куда-то в Казахстан или Сибирь? Или назад?
– Да, – кивнул Яков. – Я это понимаю. Сегодня же пойду в общину. Узнаю, что говорят. Кто уехал. Кто вернулся. Есть ли шанс.
Анна замерла, прижав к груди руку.
– А если… нас разлучат?
– Не разлучат, – ответил он с силой. – Мы уедем вместе. Или не уедем вовсе.
– Но ты понимаешь? Я плохо знаю русский. Лейка – тоже. Мирьям… она только играла в это. Читала с тобой в детстве книжки. А я? Как я буду в чужой стране?
– Ты – будешь рядом со мной. Я буду твоим языком. Я буду твоим переводчиком. Я буду твоей защитой.
Он взял её за руки.
– Анна, я не хочу быть героем. Я хочу быть живым мужем и отцом. А если для этого надо бежать – мы бежим.
Из детской выглянула Лейка. Молча подошла к матери и прижалась. Мирьям в дверях, всё слышала. Её серые глаза были серьёзными.
– Папа, – тихо сказала она. – А я смогу в Одессе продолжить учиться?
Яков присел и обнял обеих дочерей.
– Где бы мы ни были, если мы будем вместе, значит, всё возможно, – сказал он, в глубине души понимая, что времени остается все меньше и меньше. – И музыка, и учеба, и счастье…
Золото и тени
Целую неделю Яков был, как тень самого себя. По утрам, как всегда, открывал лавку, проверял витрины, полировал украшения, делал вид, что слушает клиентов. Но глаза его были пустыми, движения механическими. А после обеда он вешал на дверь табличку „Zamknięte“ и исчезал до самого вечера.
Анна старалась не задавать лишних вопросов. Она понимала: Яков что-то решает, и всё ради них.
Он возвращался поздно, с запахом чужих подвалов, пыльных квартир, дешёвых кофеен и мокрых пальто. Иногда – с золотом, которое незаметно выменивал у покидающих город, иногда – с новыми именами, слухами, адресами, куда «лучше не соваться». В глазах всё тот же огонь: тревожный, упрямый, яростный. Он не мог позволить себе ошибиться. Не с Анной. Не с дочками.
Каждую ночь, когда все засыпали, он сидел у кухонного стола и думал. Карта Польши, исписанная карандашом, лежала перед ним. Варшава – Львов – граница – и дальше, на юг, к Одессе. Казалось, всё так просто. Но за каждым километром – неизвестность, НКВД, подозрения. Он слышал рассказы: фильтрационные лагеря для «перебежчиков», допросы, обвинения в шпионаже, ссыльные эшелоны в Сибирь. Слово «Сибирь» звенело у него в голове, как колокол.
Анна… Её нельзя было представить в ватнике, на морозе, среди чужих людей. Она выросла в уюте, в любви, в нежности. Её отец – человек основательный и уважаемый передал дочь Якову, как самое драгоценное сокровище. И тот хранил её, как умел. Всю жизнь. Он не мог привести её в ад. Выход был один – уехать тихо, без следа, не будучи евреями, не будучи никем. Просто – люди, идущие на юг.
Поддельные документы стоили дорого. Но у Якова было золото, украшения, сбережения. Он умел обращаться с ними. Однажды вечером, он вернулся домой, и впервые за долгую неделю улыбнулся.
Анна, Мирьям и Лея уже сидели за столом. Он присел, взглянул на них всех и сказал:
– Я нашёл человека. Его зовут Януш Сташкевич. Через Львов. Он водит семьи уже полгода. Связи с советскими проводниками. Надёжный. Деньги он берёт немалые, но мы можем заплатить. Он поможет нам пройти границу и добраться до Одессы. Не как евреи. Не как беглецы. Как польская семья, возвращающаяся к родственникам.
Анна вздохнула и сжала его руку. Мирьям кивнула. В её глазах светилось что-то взрослое, серьёзное. Лейка молчала, глядя на отца, как будто впервые поняла: он может всё.
– Когда? – спросила Анна.
Яков чуть помедлил.
– Через две недели. Нам надо подготовиться, не спеша. Продать всё, что можем. Собрать документы. Паспорта у нас будут за неделю. Остальное мы сделаем вместе.
Он ещё не сказал, как трудно ему далось это решение. Как он отказывался верить, что уезжает не на время, а навсегда. Как больно ему было – прощаться в мыслях с Варшавой, с улицей Мазовецкой, с лавкой, которую он любил, как родное дитя, с домом, где родились его дети. Но это уже не имело значения. Главное – сохранить семью. Сохранить Анну, Мирьям, Лею. И свет их жизней, который он поклялся не дать затушить никакому зверю в мундире.
Без прощаний
На рассвете улица Мазовецкая ещё дремала в тумане, окутанная влажным июльским воздухом. Варшава спала, как будто пыталась оттянуть неизбежное пробуждение в мир, где грозы войны уже гремели за горизонтом. Семья Штерн вышла из квартиры молча, точно привидения, с небольшими чемоданами в руках и тревогой, спрятанной в складках одежды. Яков спрятал ключи от дома для новых владельцев в условленном месте и, не оборачиваясь повел семью в сторону вокзала.
Штерн был в сером костюме, сшитом ещё до кризиса, хорошо сидевшем на его прямой спине. На груди жилета часы с серебряной цепочкой, по которым он часто сверял не только время, но и ход судьбы. Шляпа с чуть опущенными полями скрывала глаза, сверху легкий плащ, в подол которого были зашиты золотые цепочки.
Анна шла рядом, в светлом плаще цвета топлёного молока, под ним – скромное платье песочного оттенка. На шее – ее любимая цепочка с кулоном-сердечком. Она держала за руку Лейку, одетую в светло-серый жакет и юбочку. Аккуратно заплетенная коса мирно дремала на худеньком плечике. Девочка держалась спокойно, но часто сжимала материнскую ладонь крепко, слишком крепко.
Мирьям шла чуть позади. На ней – лёгкое платье в сиреневый цветочек и теплый плащ синего цвета, в подклад которого Анна вшила драгоценности. Губы её были поджаты, а в глазах взрослая решимость. Она несла саквояж, в двойное дно которого тоже были спрятаны золотые изделия. Ноты, несколько любимых книг и немного одежды, больше ничего ей взять не дали.
На вокзале царила нервная суета. Люди в спешке шептались, передавали друг другу свёртки, обнимались слишком крепко и прощались слишком долго. В воздухе пахло горячим углём, сыростью и страхом. Вагоны уже дымились у платформ, гудки пронзали утреннюю тишину, как напоминание, что время бежит и к сожалению, подождёт не всех.
Они вошли в общий вагон третьего класса с деревянными скамьями. Пахло углём, потом, яблоками из чьего-то мешка и варёными яйцами. Люди сидели молча, напряжённо. Кто-то читал газету, кто-то смотрел в окно, не мигая. В углу пожилая женщина шептала молитву на иврите.
Яков устроил семью у окна. Мирьям присела рядом с Лейкой, обняв её за плечи. Анна положила руки на колени и не выпускала из рук свою сумочку. Только Яков выглядывал в окно, не отрывая взгляда от перрона – как будто ждал, что кто-то всё же появится. Но перрон оставался пустым.
Вагон дёрнулся, поезд медленно тронулся. Шум металла, стук колёс. Варшава начала уплывать назад, в прошлое.
– Мы не трусы, – тихо сказал Яков, будто оправдываясь не перед семьёй, а перед городом. – Мы спасаемся. Мы просто хотим жить…
Анна молча взяла его за руку. Поезд шёл на юг, через Люблин, Жешув, к самому сердцу Галиции – к Львову, где их ждал следующий шаг.
Пароль
Поезд въехал во Львов ближе к девяти утра. Солнце уже давно поднялось над городом, заливая платформы вокзала мягким янтарным светом. Усталые пассажиры с покрасневшими от бессонной ночи глазами спешили к выходу. В воздухе витал запах угля, перегретого металла и чуть уловимый – свежей выпечки от уличных торговцев у выхода.
На вокзале звучала преимущественно польская речь, но слышались и обрывки идиша, галицийского акцента и даже немецкого – напряжённая мозаика Львова, предчувствующего беду. Служащие объявляли прибытия и отправления по-польски, но между собой говорили, кто на украинском, кто на суржике. Мир будто колебался – чей он теперь, этот Львов? Польский? Советский? Еврейский?
Семья Штерн стояла чуть в стороне от толпы. Анна держала Лейку за руку. Её лицо было напряжено, глаза бегали, словно искали опасность. Мирьям молчала, обняв саквояж, в котором всё её детство: ноты, письма, платочек с запахом дома. Она уже не выглядела девочкой. Слишком прямая спина, слишком взрослый взгляд.
Яков, не теряя уверенности, подошёл к газетному киоску, где сидел пожилой еврей – седеющая борода, пенсне, кепка с мягким верхом и жилетка поверх рубашки. Он с равнодушием перебирал газеты, изредка кидая взгляды на прохожих. Вокруг киоска царила суета: новостные заголовки о переговорах, слухах о мобилизации, взвинченное возбуждение людей.
Яков достал из саквояжа аккуратный свёрток с пятнадцатью тысячами злотых, обвязанный лентой, и маленький конверт с запиской. Подошёл к прилавку и тихо произнёс:
– «Погода в Бердичеве пасмурная».
Старик поднял взгляд, задержал его на лице Якова, прищурился и ответил, не торопясь:
– «Но к вечеру обещают солнце».
Яков молча передал конверт. Старик вскрыл его неторопливо, нацепил пенсне, прочитал. Лоб его сморщился, потом разгладился. Он кивнул, будто что-то понял, оглянулся через плечо и свистнул коротко, но резко.
Из-за колонны вынырнул босоногий мальчишка лет десяти, в потёртых бриджах и рубахе навыпуск, с нахальной веснушчатой физиономией. Он моментально подбежал к киоску, как будто ждал этого сигнала с раннего утра.
– Беги в таверну «У Каспера», – шепнул продавец. – Скажи Янушу: гости от Давида прибыли. Пусть встречает.
– Уже лечу! – мальчишка развернулся и растворился в толпе, как дым.
Яков обернулся – Анна и девочки стояли у скамьи. Анна прижимала к себе Лейку и смотрела на мужа с тревогой и лёгкой неуверенностью. Мирьям встретилась с ним взглядом. В её серых глазах читался вопрос: «Мы в безопасности?»
Яков подошёл к ним. Не улыбался, но голос его был спокоен:
– Всё в порядке. Скоро нас встретят.
Анна кивнула, не сказав ни слова. Лейка сжала её руку сильнее, а Мирьям слегка выдохнула и села на чемодан.
Железнодорожный вокзал Львова шумел, как потревоженный улей. Но среди этого гула и страха семья Штерн уже начала путь по тонкой линии – между страхом и надеждой.