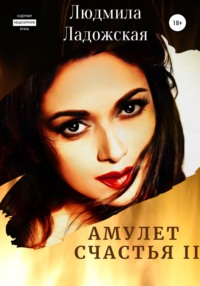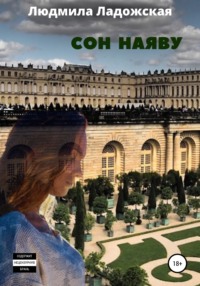Полная версия
Выстрел через время
Сара опустила взгляд.
– Нет, только старые машинки, нитки да иголки, товарищ инспектор.
Мужчина прищурился. Он был умён и не любил задавать лишних вопросов, но с годами научился улавливать детали.
– Так, – сказал он, проходя в глубь мастерской. – Вижу, гостья из Польши.
Все присутствующие почувствовали, как воздух стал плотнее. Сара застыла. Анна напряглась, чувствуя, как её сердце забилось быстрее. Нотан молчал, стараясь не выдать тревоги.
– Это Анна, – наконец, слабо сказала Сара. – Стержицкая. Беженка.
Инспектор посмотрел на Анну и кивнул, как будто ожидая чего-то. Присмотрелся, но лицо его не выдавало эмоций.
– Беженка? Хмм. Ну, и что же ты здесь делаешь, милая? Молдаванка – это не приют для беженцев. Это центр труда и дела!
Анна взглянула на Нотана. Её глаза чуть помутнели, но она сдержала дрожь в голосе.
– Я… работаю здесь, помогаю.
Инспектор пару секунд молчал. Взгляд его оставался твёрдым, но он не казался агрессивным. Он привык к таким встречам – по всему городу, в последние годы, такие проверки стали обыденностью. Он знал, что большинство евреев теперь прячутся под чужими именами и занимаются ремеслом, дабы скрыться от внимания властей.
– Ты, значит, в трудовой книге записана, да? Работаешь официально?
Анна замешкалась, но Сара тут же подала ему книжку, которую держала на полке.
– Да, конечно, – сказала она уверенно. – Анна Стержицкая. Вот. У неё запись.
Инспектор взял трудовую книжку и пролистал страницы, останавливаясь на последней записи. Он прокашлялся, осматривая документы.
– Понял. Ладно, держитесь тут. Зайду через месяцок. А, может, и раньше.
Женщины молчали, в воздухе висело напряжение. Инспектор положил трудовую на стол и пошёл к выходу, но на пороге остановился и обернулся.
– Сара, ты это… осторожней, знаешь, – сказал он на прощание. – Время непростое, а мы все на виду. Кто будет тихо, тот и будет жив.
Сара кивнула. Инспектор ушёл, и сразу после его ухода все в мастерской выдохнули. Нотан прошёл к столу и сидел там молчаливый, словно думая о чём-то большом и важном. Анна подошла к нему и тихо прошептала:
– Мы справимся. У нас все получится.
Нотан взглянул на неё, пытаясь скрыть ту тревогу, что всё же оставалась. Потом перевел взгляд на Сару и уверенно произнес: «Наша семья не сдастся! Тем более, когда мы вместе!»
Прослушивание
Конец августа 1939 года донельзя раскалил улицы Одессы. Двор был пыльный, как старый табачный мешок. У калитки – сине-зелёная краска облупилась еще больше, а виноград с навеса тянулся к солнцу, как ребенок к материнским рукам.
Анна стояла у умывальника во дворе и тёрла простыню, нервно дергая мокрую ткань. Блондинка с высокой прической, заколотой невидимками, в простом ситцевом платье с белым кружевным воротником. Ни дать, ни взять – учительская жена. Но глаза выдавали тревогу. Она всё ещё вздрагивала, услышав вдалеке гром от проходящего трамвая, путая его с чем-то совсем иным.
– Маруся! – позвала она в сторону открытой двери. – Ты не опаздываешь?
Из дома вылетела Мария. Сероглазая, с гривой светлых волос, заплетенных в косу. Белая блузка с отложным воротником, узкая чёрная юбка ниже колена, скрипучие сандалии и потрёпанная нотная тетрадь в руках.
– Мамо, я уже опаздываю! А у меня же сегодня проба перед комиссией!
Анна поцеловала дочь в висок.
– Помни, что ты – из-под Львова, училась частным образом. Буду молиться, что твой талант сам за себя скажет.
Мария кивнула. У неё внутри всё дрожало: она переживала не столько за поступление, сколько за то, чтобы её не разоблачили.
Голос под чужим именем
Последние августовские денечки были такими жаркими, что асфальт на улице Мельничной лип к подошве, а воздух казался густым, как варенье. Молдаванка жила своей обычной жизнью: кто-то красил забор, кто-то гонял детей по двору, а кто-то продавал из-под полы «польскую парфюмерию» – привезенную беженцами.
Мария за двадцать пять минут дошла до Островидовой, куда накануне ходила с Анной договориться о прослушивании с мадам Лянской. Девушка быстро отыскала преподавательницу – сухую костлявую женщину в длинной юбке и французским узлом на голове в одной из невзрачных аудиторий.
– Мадам, я не опоздала на прослушивание? – Мария была несколько расстроена и удивлена, что кроме Лянской в аудитории никого нет.
– Нет, – резко бросила женщина. – Я решила сначала прослушать тебя сама. Что будешь исполнять?
– Арию из Кармен, – не уверенно произнесла Мария, и села за старое расстроенное пианино. Пальцы ее порой спотыкались, но голос – чистый, как утренняя капля, – звучал уверенно. Она пела так, как будто собиралась выжить этой песней.
– Девочка, вы где учились?
– Под Львовым… частным образом, немного в Кракове – соврала Мария.
– Это слышно. – Лянская встала. – Так, девочка, так не пойдёт. Тут вам не просто пиликать. Это голос. И слух. А это – редкость, даже среди советских чудес. С вами надо серьёзно. Жду вас завтра с родителями.
Чудо. Консерватория. Приём у Брукнера
На следующий день Мария пришла в училище с матерью и маленькой Лесей. Ян остался дома, чтобы не привлекать внимания – он был слишком явно «не поляк».
Мадам Лянская встретила их на крыльце.
– Я говорила с коллегами. Девочка не для нашего уровня. Есть у меня один знакомый – профессор Брукнер, преподаёт в консерватории. Он немного чудак, но если он услышит, то возьмёт. Но… – она посмотрела пристально. – Без благодарности не бывает.
Анна кивнула и достала из кошелька свёрток с золотой брошей, которую ей сунул в карман Ян.
– Семейная вещь. Франция, 1910 год.
– Подойдёт, – кивнула Лянская, не моргнув.
Через несколько дней Анна и Мария с волнением входили в величественное здание Одесской государственной консерватории на Пироговской, 11, интерьеры которой сносили голову наповал. Высокие потолки, мраморные лестницы, гул роялей, скрипок, голосов из многочисленных классов, запах старых партитур, дерева и пыли будоражили сознание Марии.
Профессор Исаак Брукнер сидел в большом кабинете, в окружении партитур, старых шарфов и пустых чернильниц. К нему входили, как в храм, а выходили либо вдохновлённые, либо униженные.
Мария стояла у рояля и пела арию из «Русалки» Дворжака. Звук её голоса вылетал в открытое окно и плавился в жарком воздухе Одессы, как мёд на солнце.
Брукнер не перебивал. Потом подошёл к роялю и тихо проговорил, вглядываясь в черты ее лица:
– Кто ты по крови?
– Полька. Мария Стержицкая, – ответила она.
Он смотрел на неё долго, пристально. Потом махнул рукой:
– Мне всё равно, хоть ты чертополох. Это голос. Будешь поступать сразу на второй курс. Учи репертуар. И – молчи. У нас тут все чего-то боятся, а голос – он вне паспорта.
Вечером во дворе
Дядя Сёма снова курил у калитки и щурился на закат:
– Ну шо, наша Мария теперь певица? Только бы не в оперетте, а то у нас тут одна была – тоже пела. А потом в цирке на козле прыгала…
Анна улыбнулась.
– С таким голосом, как у моей Марии путь только в оперу!
Мария села у ступенек, держа в руках тетрадь с упражнениями по вокалу. По ее лицу играла бледная тень виноградной лозы. Внутри – трепет, как у птицы, выпущенной в небо. Но она знала – у неё есть цель и шанс не просто выжить, а жить.
Первый учебный день в консерватории
Утро было ясное, солнце ласкало фасады домов, крытые черепицей, пыль тихо оседала на булыжную мостовую. Мария шла по улице Пироговской, держа за ремешок тёмную папку с нотами. Белое платье с мелким синим цветочком было слегка великовато. Анна наскоро сама подшила его в мастерской, где теперь подрабатывала. Светлые волосы были уложены в две закрученные косы, как у польских девушек, но глаза – большие, серые, наблюдательные – выдали бы в ней скорее одесситку, чем приезжую.
Мария перевела дыхание у входа в старое здание консерватории с белыми колоннами и облупленной лепниной. На ступеньках курили трое юношей в рубашках с закатанными рукавами.
– Девушка, вы на вокал или фортепиано? – окликнул один, белобрысый, с прищуренными глазами.
– А вы что, распределяете? – спокойно парировала Мария.
– Не, я просто первый на курсе по остроумию, – усмехнулся он. – Яша Борейко, композитор-любитель, контрабасист по необходимости, безумец по натуре.
– Мария Стержицкая. Вокал и фортепиано. Поступила на второй курс.
– О, сразу на второй! Ишь какая!
Мария пожала плечами и пошла внутрь.
Коридоры были прохладные, пахло лаком, воском и чёрными чернилами. На стенах – портреты Бетховена, Римского-Корсакова, Чайковского. В расписании её первая пара – ансамбль, затем гармония, а после – класс вокала с самим Владиславом Головчаком, известным баритоном, который когда-то пел в Варшаве.
Аудитория была полна – ребята постарше, девушки в шелковых блузках, юбках по колено и чулках, многие – одесситы. Сели в круг. Кто-то начал наигрывать «Ой, чий то кінь стоїть» на фортепиано. Мария робко заняла стул.
– Ты новенькая? – наклонилась к ней пухлощекая брюнетка.
– Да. Стержицкая. Из Польши.
– А я Геля. С Малой Арнаутской. У нас здесь дружно. Если что – зови.
На классе вокала Владислав Головчак подошёл к Марии лично.
– Это ты та самая девочка, что из училища? Мне про тебя профессор Брукнер говорил….
Мария кивнула, сердце бухало в груди, как набат.
– Ну, покажи, что там у тебя. Может, я даром взял в группу, а может, брильянт?
Она запела «Ave Maria», прикрыв глаза. Ноты уверенно ложились в воздух. Когда она закончила, в классе воцарилась тишина.
– Ну что ж… – сказал Головчак, почесав затылок. – Бриллиант.
Вечером
Мария вернулась домой на Молдаванку. Анна гладила постельное бельё. На плите пыхтел ячневый суп.
– Как всё прошло, Маруся?
– Как в другой жизни, мама. Как будто я вышла на сцену, а зрителей нет. Только свет…..И Головчак.
Анна улыбнулась. Мария села у окна. На улице шумели мальчишки, где-то во дворе играла гармошка. А из окна соседки доносился радиоприёмник:
"…Германия нарушила польскую границу. Идёт мобилизация…"
Мария не сразу поняла смысл слов. Её день был слишком светлый, слишком… другой. Но ей показалось, будто тень от солнца вздрогнула на полу после этого сообщения.
Студенческая жизнь
Мария быстро стала заметной фигурой в коридорах консерватории на Пироговской. В её походке было что-то европейское, воспитанное – выпрямленные плечи, строгая манера держаться, аккуратные наряды. Она не носила кружев или шляп с перьями, как некоторые одесские барышни. Взгляд был – собранный, внимательный, а голос цеплял, будто капля на стекле в жаркий день.
Уже в первую неделю её начали узнавать.
– Ты видела ту новенькую, польку? Мария. Поёт, как оперная. Я аж мурашками пошёл, – делился с товарищем студент по классу скрипки в коридоре, где пахло мелом и горячим чаем.
– У неё в глазах, как будто кино – то любовь, то война, – добавлял кто-то из ребят.
Особенно интерес проявлял Яша Борейко, тот же белобрысый контрабасист, что окликнул её в первый день. Он поджидал её у входа:
– Ты, Стержицкая, сегодня как-то особенно вышагиваешь. Прямо по нотной линейке.
– Просто иду в миноре, – усмехалась Мария.
Он протянул ей леденец:
– На случай, если мир окажется слишком горьким.
– Разве только, что ты его можешь омрачить!
Но даже шутки и внимание молодых людей не заслоняли то, что начинало происходить за западной границей.
В коридоре раздался крик:
– Варшаву бомбят! Немцы в городе!
Это было 28 сентября 1939 года. Мария остановилась у окна, сжимая в руках тетрадь по сольфеджио. Новости вылетали уже из радиоприёмников и газет с такой скоростью, что казались сном. Но когда преподаватель истории музыки сказал: «Польша перестала существовать как государство. Варшава сдалась…» – у неё в животе всё сжалось.
В тот вечер она не пошла домой сразу. Присела на лавку у Тещиного моста, долго смотрела, как солнце уходит в море, и слышала в себе глухой вой:
"А где сейчас наши соседи? Друзья? Преподаватели? Дядя Лёва и дядя Шломо?»
Слёзы не текли. В ней словно что-то замёрзло. Словно часть её осталась в Варшаве, в разбитых улицах, где она уже не была.
В последующие дни её пение стало другим.
Преподаватель заметил:
– Ты поёшь с болью. Даже когда Моцарта поёшь, он у тебя с тоской… Но это хорошо. Голос живёт, когда сердце трепещет.
Мария кивнула. Она пела «Ave Maria», и каждый раз в словах «ora pro nobis» – «молись за нас» – она будто просила Бога сохранить хотя бы их.
Фрося
Как то на перемене между сольфеджио и вокалом Мария стояла у окна, читая письмо, которое пыталась сочинить друзьям в Польшу, хоть и не знала, дойдет ли оно. Рядом, громко хрустя яблоком, стояла девушка с рыжими кудрями, загорелая, в клетчатой юбке, чуть длиннее колена, и с сдвинутым на затылок беретом.
– Ты из Польши, да? – спросила она, жуя, не стесняясь. – Ты, как поешь, так у меня аж мурашки между лопатками бегают. Впрочем, как у всех! – махнула она рукой.
Мария улыбнулась, не зная, что сказать.
– Я Фрося. Ефросинья, но ты зови, как хочешь. Только не "Фроцл", как меня любят называть ребята, ладно? А ты – Мария?
– Мария Стержицкая. Вроде как из Варшавы… А, сейчас с Молдаванки.
– Во-во! И я! Улица Богдана Хмельницкого, за базаром, видишь, какая встреча! У нас даже куры по субботам фугой кудахчут, а соседи клянутся, что Моцарт им во сне снится. Ну пойдём пить чай, что ли, с вареньем. У меня с крыжовником, мать варила и с собой баночку сунула. В буфете при консерватории – три стола, чайники с кипятком, бумажные стаканчики, пара засушенных булочек и продавщица тётя Сима, которая знала про каждого студента, кто кому ноту срежет и у кого какой роман.
– Смотри, только не влюбись в этого Борейко. Он уже двум девкам обещал серенаду под балконом, а в итоге у бабки на Фонтанской снял комнату и туда водит всех своих "муз".
Мария засмеялась впервые за много дней.
– Я пока только в музыку влюбляюсь!
– Ну-ну, это пока. А Одесса – она такая… мягкая, как котлетка, но зубы у неё из морского камня. Влюбишься – не отпустит!
Так началась дружба. Фрося оказалась девчонкой с характером – прямолинейная, шумная, но добрая до слез. Она носила поношенные платья, вечно болтала с преподавателями как с ровней и всегда носила с собой леденец от кашля – "на всякий случай, если в жизни станет совсем кисло".
С ней Мария могла молчать и слушать. Могла смеяться – по-настоящему. А однажды Фрося спросила:
– Ты боишься за свою семью?
Мария кивнула.
Фрося взяла её за руку:
– Если что, моя мама сказала, что можно быть у нас. Мы не золотые, но душа есть. А ты теперь не просто студентка. Ты – как сестра мне. И точка.
Первые концерты
Консерватория на улице Пироговской, с ее высокими окнами и шумными лестницами, гудела от репетиций и смеха. В холле повсюду были плакаты с расписанием концертов. Вечерами в большом зале устраивали благотворительные вечера и студенческие собрания.
Мария и Фрося с первых дней окунулись в этот мир. А после занятий их можно было увидеть в кафешках у моря, в пыли и шуме Приморского бульвара, обсуждающими музыку и судьбы.
– Знаешь, Фрося, – говорила Мария, – когда я пою, я будто лечу. Вся боль, страхи – они уходят, и остаются только ноты.
– Я вижу! Ты – настоящая! На сцене сияешь, как маяк на Тещином мосту, – отвечала Фрося и подмигивала.
Первый большой студенческий концерт был назначен на конец октября. Мария, с нежностью и тревогой одновременно, готовилась к сольному выступлению. В ее репертуаре была ария из «Кармен» и несколько польских народных песен, которые она тщательно выучила в память о родине.
В день концерта коридоры консерватории были заполнены студентами в разной одежде – от аккуратных костюмов и платьев с воротничками до потертых свитеров и шарфов, накинутых через плечи.
– Давай, Мария, ты порвешь зал! – подбадривала Фрося, поправляя платок и шепча в ухо: – Если что, то я рядом.
Сцена была простая, но украшенная живыми цветами и тканями. Когда зазвучали первые ноты, зал замер. Голос Марии, чистый и сильный, проникал в сердца слушателей, заставляя забыть обо всем на свете. А после концерта начался настоящий праздник – в холле за столиками слышался смех, звенели бокалы с чаем и кондитерскими пирожными. Молодые люди делились впечатлениями, строили планы, шептались о первой любви. А Фрося постоянно попадала в курьезные ситуации – то забыла текст, то случайно перепутала аккорды, вызывая дружный смех. Мария чувствовала себя частью большого, живого организма – одесского студенчества, где даже страхи и невзгоды растворялись в музыке и дружбе.
Новый 1940 год
Снег падал на Молдаванку тихо, как пух, застилая булыжники Мельничной улицы и крыши низких домиков белым, ненадежным покрывалом. В маленьком домике Штернов/Стержицких царила непривычная суета и запах праздника, смешанный с запахом хвои и жареного лука. Первый Новый год в Одессе, первый – под красной звездой, первый – вдали от родной Варшавы, в убежище, которое все еще ощущалось зыбким.
Рядом с буфетом, на маленьком столике, покрытом старой, но чистой скатертью красовалась скромная елочка. Не варшавская красавица, а одесская скромница – купленная на базаре за не малые деньги, украшенная самодельными флажками из цветной бумаги, несколькими настоящими стеклянными шариками (подарки благодарных клиентов Саре и Анне) и гирляндой из склеенных колечек золотистой фольги, которую с таким старанием мастерили Леся, Мария и Фрося. На верхушке – не Вифлеемская звезда, а вырезанная из картона и покрашенная в красный цвет пятиконечная. Электричества не было, но несколько настоящих восковых свечей, вставленных в картонные держатели и привязанных нитками к веткам, готовились к вечеру, обещая волшебный, трепещущий свет.
Ян Стержицкий сидел у печки, внешне спокойный, но пальцы его нервно перебирали край рубашки. Он казался постаревшим за эти полгода. Черные, чуть вьющиеся волосы, еще больше посеребрило у висков, а глубоко запавшие темные глаза постоянно сканировали комнату, будто ища невидимую угрозу. Его типично еврейские черты – крупный нос, смуглая кожа, густые брови – были как клеймо, которое он теперь носил с постоянной внутренней дрожью. Рядом, пытаясь занять руки, чистил картошку Нотан, его брат. Нотан выглядел крепче, одессит до мозга костей, с быстрыми, цепкими глазами ремесленника, упрямым подбородком и аккуратно подстриженной темной бородкой.
Анна и Сара хозяйничали у печи. Светлые волосы Анны, собранные в пучок, выбивались влажными прядями на лоб, а голубые глаза были сосредоточены на сковороде, где шипели котлеты из хорошего фарша с большим количеством лука. Ее арийская внешность была их щитом, но сегодня в ней читалась усталость и напряжение. Сара высокая, статная, с добрыми, но усталыми глазами и руками, навсегда испачканными мелом от кроя, ловко ставила в печь чугунок с кутьей – ритуальной кашей с медом, маком и изюмом, данью памяти о прошлых мирных праздниках, которые теперь казались сном.
Мария наряжалась за занавеской, отгораживающей ей уголок. Ее голос, чистый и сильный, даже вполголоса напевал арию из «Евгения Онегина». Она вышла, и комната будто осветилась. Светлые, почти льняные волосы были уложены в скромную, но элегантную прическу, серые глаза сияли ожиданием праздника. На ней было простенькое платьице, но Саре удалось придать ему намек на моду. Длинные, тонкие пальцы пианистки нервно поправляли воротничок. Рядом вертелась Фрося, ее верная подруга с соседнего двора, девушка с живыми карими глазами и вечным смешком, пришедшая разделить праздник с разрешения матери, которая была занята очередным кавалером.
Леся сидела на полу, разглядывая подарки – по паре теплых носков, связанных Сарой, и по мандарину. С ее темными кудряшками, большими карими глазами и ямочкой на подбородке – вылитый маленький Яков, смотрела на елку с благоговением и что-то шептала, разглядывая бумажного ангела.
– Ну что, Стержицкие-Штерны, готовы встречать сороковой? – Нотан поставил на стол бутылку хорошего одесского вина и бутылку «Столичной», припасенную на самый крайний случай. – Варшава далеко, а жизнь здесь, слава Богу… то есть, товарищу Сталину, – он поправился, бросив осторожный взгляд на стену, где рядом с вырезкой из газеты о достижениях пятилетки висела скромная икона, прикрытая полотенцем на время праздника.
– Жизнь… – Ян хрипло кашлянул. Он встал, подошел к заледенелому окну, за которым кружились снежинки. – Жизнь, Нотка, висит на ниточке. На ниточке фальшивых бумажек и нашей выдумки, – он обернулся. Его лицо было напряженным. – Вы слышали, что говорят на Привозе? В порту? О Польше? О том, что Гитлер....
– Ян! – Анна резко обернулась от печи, лицо ее побледнело. – Не сейчас. Сегодня праздник. Новый год, – в ее голосе была мольба и страх.
– Праздник? – Яков горько усмехнулся, но голос понизил до шепота. – Аннушка, милая, ты думаешь, Гитлер отмечает Новый год? Он празднует свои победы. Польша… Дания… Норвегия… Куда дальше? Запад уже не спасет. Куда?! – он ударил кулаком в ладонь.
В комнате повисло неловкое молчание. Шипение котлет на сковороде стало вдруг очень громким. Даже Мария перестала напевать.
– Ян, ты сгущаешь краски, – осторожно начал Нотан, наливая вино в стаканы. – У нас пакт Молотова-Риббентропа. Нейтралитет. Германии с нами не справиться. У нас пространства – хоть отбавляй, армия – сильнейшая…– но в его голосе не было прежней одесской уверенности. Слухи просачивались на Молдаванку быстрее, чем летит стрела из лука. Про польских беженцев, про разговоры моряков с иностранных судов.
– Пакт… – Ян сжал губы. – Пакт – бумажки. Такой же, как наши паспорта, Нотка. Фальшивый. Он нужен был Гитлеру, чтобы развязать руки на Западе. А что будет, когда он там управится? Кто следующий? Мы! Евреи! И те, кто нас прячет, – его взгляд скользнул по Анне и Марии. По их светлым волосам и глазам – их спасению и его вечной тревоге.
– Папа, не надо…– тихо сказала Мария, подходя и кладя руку ему на плечо. Ее красивое лицо было омрачено. – Мы в Советском Союзе. Нас защитит Красная Армия. Помнишь, как в Испании интернационалисты били фашистов? И мы победим, если что! Я спою им "Марсельезу"! – в ее глазах горел юношеский, наивный патриотический огонек, подогретый консерваторской пропагандой.
– Споёшь, дочка, споёшь… – Яков погладил ее светлую голову. Контраст между ее арийской внешностью и его собственной, еврейской, был сегодня особенно болезненным. – Только бы не пришлось…
– Давайте за стол, дорогие! – Сара поспешно перевела разговор, расставляя тарелки. Ее голос дрожал лишь слегка. – Смотрите, какая кутья получилась! И селедочка "под шубой"! И даже килька в томате! Настоящий праздник!
Они сели. Тесновато, локтями задевая друг друга. Зажгли свечи на елке – трепетные огоньки отразились в стеклянных шарах и в широких глазах детей. Наконец-то, на столе появилось скромное изобилие: кутья, дымящаяся картошка, котлеты, селедка, заветная баночка кильки, соленые огурцы, черный хлеб и святая святых – три мандарина и почти килограмм конфет "Мишка на севере", купленных Нотаном по блату.
Нотан поднял стакан с вином.
– Ну, что ж… За Новый 1940 год! Чтобы он был… спокойнее. Чтобы работа была. Чтобы дети учились. Чтобы… чтобы мир был!
– За мир! – хором, но без особой веры, подхватили остальные. Чокались без энтузиазма.
Ели сначала молча, сосредоточенно, наслаждаясь сытостью. Потом разговор потек осторожно, обходя острые углы. Сара расспрашивала Марию о консерватории, о новых педагогах. Фрося что-то шептала Марии на ухо, и та смущенно улыбалась. Анна уговаривала Лесю съесть хоть немного кутьи – "за упокой душ усопших родственников", как было принято. Нотан рассказывал о заказе на офицерские шинели, которые взяла их мастерская – "дело прибыльное, пока…".
Но тень войны, как дым от печки, витала в комнате. Она просачивалась в паузы, в украдкой брошенные взгляды Яна в окно, в слишком громкий смех Нотана, в дрожащие руки Анны, когда она наливала чай.
– А правда, дядя Нотан, – не выдержала Леся, – что немцы – они страшные? Что они людоеды? Так Петька с третьего двора говорил…
– Врёт Петька! – отрезал Нотан резко. – Немцы… они, как все люди. Только у них сейчас власть у плохих начальников. А у нас – у хороших. Товарищ Сталин не даст нас в обиду, – он произнес лозунг, но без обычной убежденности, больше для успокоения детей и себя самого.
– А если… если они все же придут? – тихо сказал Ян, ковыряя вилкой картошку. Он смотрел не на брата, а на пламя свечи. – Что будет с нами? С Молдаванкой? С Одессой?