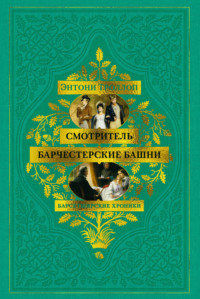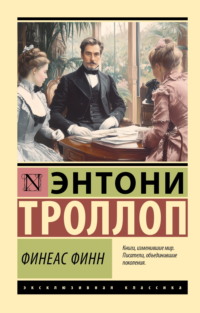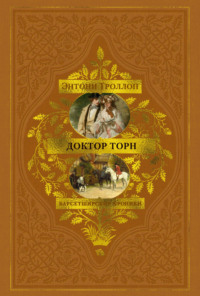Полная версия
Смотритель
– Позволил что? – спросил смотритель.
– Слушать этого Болда и другого кляузника, Финни. И написать петицию. Почему вы не велели Бансу уничтожить ее?
– Едва ли это было бы разумно, – ответил смотритель.
– Разумно – да, очень разумно было бы, если бы они разобрались между собой. А теперь я должен идти во дворец и отвечать на их петицию. Обещаю вам, ответ будет очень коротким.
– Но почему им нельзя было подать петицию, архидьякон?
– Почему нельзя?! – воскликнул архидьякон так громогласно, словно пансионеры могли услышать его сквозь стены. – Почему нельзя?! Я им объясню, почему нельзя. Кстати, смотритель, я бы хотел сказать несколько слов им всем.
Смотритель растерялся так, что на миг перестал играть. Он категорически не желал уступать зятю свои полномочия, решительно не намеревался вмешиваться в какие-либо действия пансионеров по спорному вопросу, ни в коем случае не хотел обвинять их или защищать себя. И он знал, что именно это все архидьякон сделает от его имени, причем далеко не кротко, однако не находил способа отказаться.
– Я предпочел бы обойтись без лишнего шума, – сказал он виновато.
– Без лишнего шума! – повторил архидьякон все тем же трубным гласом. – Вы хотите, чтобы вас растоптали без лишнего шума?
– Если меня растопчут, то да, безусловно.
– Чепуха, смотритель. Я вам говорю, надо что-то делать. Необходимо принимать активные меры. Давайте я позвоню, и пусть им скажут, что я хочу поговорить c ними на плацу.
Мистер Хардинг не умел противиться, и ненавистный приказ был отдан. «Плацом» в богадельне шутливо называли площадку, выходящую одной стороной к реке. С трех других сторон ее окружали садовая стена, торец смотрительского дома и собственно здание богадельни. «Плац» был замощен по периметру плитами, а в середине – булыжником; в самом центре располагалась решетка, к которой от углов шли каменные канавки. Вдоль торца дома под навесом от дождя располагались четыре водопроводных крана; здесь старики брали воду и здесь же обычно умывались по утрам. Место было тихое, покойное, затененное деревьями смотрительского сада. Со стороны, выходившей к реке, стояли каменные скамьи, на которых старики частенько сидели, глядя на шнырявших в реке рыбешек. На другом берегу расстилался сочный зеленый луг; он уходил вверх по склону до самого настоятельского дома, так же скрытого от глаз, как и настоятельский сад. Другими словами, не было места укромнее, чем плац богадельни, и здесь-то архидьякон собирался сказать пансионерам, что думает об их негодном поступке.
Слуга скоро принес известие, что пансионеры собрались, и доктор Грантли нетерпеливо поднялся, чтобы обратиться к ним с речью.
– Вам, безусловно, следует пойти со мной, – объявил он, заметив, что мистер Хардинг не выказывает намерения последовать за ним.
– Я предпочел бы остаться, – заметил мистер Хардинг.
– Бога ради, давайте не будем допускать раскола в собственном лагере, – ответил архидьякон, – давайте наляжем со всей мочи, а главное – сообща. Идемте, смотритель, не бойтесь своего долга.
Мистер Хардинг боялся – боялся, что его принуждают к действиям, вовсе не составляющим его долг. Однако у него не было сил противиться, так что он встал и пошел вслед за зятем.
Старики кучками собрались на плацу, во всяком случае одиннадцать из двенадцати, поскольку бедный лежачий Джонни Белл уже давно не ходил и даже не вставал; он, впрочем, в числе первых поставил крестик под петицией. Да, он не мог подняться с постели, да, у него не осталось в мире ни одной близкой души, кроме друзей в богадельне, из которых самыми верными и любимыми были смотритель и его дочка, да, старик получал все, что требовалось слабому телу, все, что могло порадовать угасавший аппетит, – тем не менее его потухшие глаза заблестели при мысли заполучить «по сотне на нос», как красноречиво выразился Эйбл Хенди, и бедный старый Джонни Белл алчно поставил крестик под петицией.
Когда появились двое священников, все обнажили головы. Хенди помедлил было, однако черные сюртук и жилетка, о которых он с таким пренебрежением говорил в комнате Скулпита, действовали даже и на него, так что он тоже снял шляпу. Банс, выйдя вперед, низко поклонился архидьякону и с ласковым почтением выразил надежду, что смотритель и мисс Элинор пребывают в добром здравии, а также, добавил он, вновь поворачиваясь к архидьякону, «и супруга, и детки в Пламстеде, и милорд епископ». Покончив с этим приветствием, он вернулся к остальными и тоже занял место на каменной скамье.
Архидьякон, который собирался произнести речь, походил на священную статую, воздвигнутую посреди каменной площадки, – достойное олицетворение Церкви Воинствующей на земле. Его шляпа, большая и новая, с широкими загнутыми полями, каждым дюймом свидетельствовала о принадлежности к духовному званию. Густые брови, широко открытые глаза, полные губы и сильный подбородок соответствовали величию сана; добротное сукно на широкой груди говорило о благосостоянии клира, рука, убранная в карман, символизировала рачение нашей матери-церкви о временном имуществе, другая, свободная, – готовность сразиться за ее святыни, а ниже пристойные панталоны и аккуратные черные гетры подчеркивали прекрасное сложение ног, зримо обозначая достоинство и внутреннюю красоту нашей церковной иерархии.
– Итак, – начал он, приняв ораторскую позу, – я хочу сказать вам несколько слов. Ваш добрый друг смотритель, и я, и его преосвященство епископ, от имени которого я к вам обращаюсь, весьма огорчились бы, будь у вас справедливые основания жаловаться. Любую справедливую причину для жалоб смотритель, его преосвященство или я от его имени немедленно устранили бы без всяких петиций.
Здесь оратор сделал паузу. Он ожидал редких хлопков, означавших бы, что самые слабые в стане противника понемногу сдаются. Однако хлопков не последовало, даже Банс сидел молча, поджав губы.
– Без всяких петиций, – повторил архидьякон. – Мне сказали, что вы направили его преосвященству петицию.
Он вновь сделал паузу, дожидаясь ответа, и через некоторое время Хенди собрался с духом и подал голос:
– Да, направили.
– Вы направили его преосвященству петицию, в которой, как мне сообщили, пишете, что не получаете положенного вам по завещанию Джона Хайрема.
На сей раз ответом стал согласный гул большей части пансионеров.
– Итак, чего вы просите? Чего вам здесь недостает? Что…
– Сто фунтов в год, – пробурчал старый Моуди. Казалось, его голос шел из-под земли.
– Сто фунтов в год! – вскричал воинствующий архидьякон. Он поднял сжатую руку, выказывая свое возмущение наглым требованием, а другой крепко стиснул в кармане панталон монетки по полкроны[24] – символ церковного богатства. – Сто фунтов в год! Да вы, наверное, выжили из ума! Вы говорите о завещании Джона Хайрема. Когда Джон Хайрем строил приют для немощных стариков, бедных мастеровых, неспособных больше себя кормить, увечных, слепых, недужных, думаете ли вы, что он собирался сделать их джентльменами? Думаете ли вы, что Джон Хайрем хотел дать сто фунтов в год одиноким старикам, которые в лучшие-то годы зарабатывали от силы два шиллинга или полкроны в день? О нет. Я скажу вам, чего хотел Джон Хайрем. Он хотел, чтобы двенадцать убогих стариков, которых некому поддерживать и которые умерли бы от голода и холода в жалкой нищете, перед смертью получили в этих стенах пищу, кров и немного покоя, чтобы примириться с Богом. Вот чего хотел Джон Хайрем. Вы не читали завещания, и сомневаюсь, что его читали дурные люди, которые вас подстрекают. Я читал, я знаю, что написано в этом завещании, и я вам говорю, что именно такова была его воля.
Ни звука не донеслось со стороны одиннадцати стариков. Они молча слушали, какова, по мнению архидьякона, их участь. Они созерцали его внушительную фигуру, ни словом, ни жестом не показывая, как оскорбили их выбранные им выражения.
– А теперь подумайте, – продолжал он, – хуже ли вам живется, чем хотел Джон Хайрем? У вас есть кров, пища, покой и еще многое в придачу. Вы едите в два раза лучше, спите в два раза мягче, чем до того, как вам посчастливилось сюда попасть, у вас в кармане вдесятеро больше денег, чем вы зарабатывали в прежние дни. А теперь вы пишете епископу петицию и требуете по сто фунтов в год! Я скажу вам, друзья мои: вас одурачили мерзавцы, действующие в собственных корыстных целях. Вы не получите и ста пенсов в год к тому, что получаете сейчас, а вполне возможно, станете получать меньше. Вполне возможно, что его преосвященство или смотритель внесут изменения…
– Нет-нет-нет, – перебил смотритель, с неописуемой тоской слушавший тираду своего зятя, – нет-нет, друзья мои. Пока мы с вами живем вместе, я не хочу ничего менять, по крайней мере в худшую для вас сторону.
– Благослови вас Бог, мистер Хардинг, – сказал Банс.
– Благослови вас Бог, мистер Хардинг. Благослови вас Бог, сэр. Мы знаем, что вы всегда были нашим другом, – подхватили другие пансионеры, если не все, то почти все.
Архидьякон еще не закончил речь, но не мог без ущерба для достоинства продолжать ее после этого всплеска чувств, так что повернулся и пошел в сторону сада, смотритель – за ним.
– Что ж, – сказал доктор Грантли, оказавшись в прохладной тени деревьев, – думаю, я говорил вполне ясно.
И он утер пот со лба, потому что ораторствовать на солнцепеке в черном суконном костюме – работа нелегкая.
– Да, вполне, – ответил смотритель без всякого одобрения.
– А это главное, – продолжал его собеседник, явно очень довольный собой, – это главное. С такими людьми надо говорить просто и ясно, иначе не поймут. Думаю, они меня поняли. Поняли, что я хотел им сказать.
Смотритель согласился. Он тоже считал, что пансионеры вполне поняли архидьякона.
– Они знают, чего от нас ждать, знают, что мы будем пресекать всякую строптивость, знают, что мы их не боимся. А теперь я загляну к Чедуику, расскажу ему, что сделал, потом зайду во дворец и отвечу на их петицию.
Смотрителя переполняли чувства – переполняли настолько, что готовы были вырваться наружу. Случись это, позволь он себе высказать вслух бурлящие внутри мысли, архидьякон бы очень удивился суровой отповеди. Однако другие чувства заставляли мистера Хардинга молчать. Он все еще боялся выразить несогласие с зятем – он всеми силами избегал даже видимости разлада с другим священнослужителем и мучительно страшился открытой ссоры с кем бы то ни было даже по малейшему поводу. Его жизнь до сих пор была тиха и безмятежна. Прежние мелкие трудности требовали лишь пассивной стойкости, а нынешний достаток ни разу не вынуждал к какому-либо деятельному противостоянию, ни разу не становился причиной тягостных разногласий. Он отдал бы почти все – куда больше, чем по совести считал себя обязанным отдать, – чтобы отвратить надвигавшуюся бурю. Горько было думать, что приятное течение его жизни потревожат и возмутят грубые руки, что его тихие тропки превратятся в поле сражения, что скромный уголок мира, дарованный ему провидением, осквернят, не оставив там ничего доброго.
Он не мог бы откупиться деньгами, потому что их у него не было: добрый смотритель так и не научился складывать гинею к гинее. Однако с какой готовностью, с какой глупой легкостью, с какой радостью отдал бы он половину всех будущих доходов, если бы от этого тихонько рассеялись собравшиеся над ним тучи, если бы это примирило реформатора и консерватора: возможного завтрашнего зятя, Болда, и реального сегодняшнего зятя, архидьякона.
На подобные компромиссы мистер Хардинг пошел бы не для того, чтобы спасти хоть сколько-то: он по-прежнему почти не сомневался, что ему оставят его нынешнее теплое местечко до конца жизни, если он сам так решит. Нет, он руководствовался бы единственно любовью к тишине и страхом перед публичным обсуждением своей особы. Смотритель был жалостлив – чужие страдания ранили его душу, – но никого он так не жалел, как старого лорда, чье сказочное богатство, полученное от церковного бенефиция, навлекло на несчастного такое бесчестье, такое общественное порицание, дряхлого восьмидесятилетнего Креза, которому не дали умереть в мире и против которого ополчился весь свет.
Неужто и ему суждена похожая участь? Неужто газетчики поставят его к позорному столбу как человека, который жирует на деньги бедняков, на средства, оставленные благотворителем для поддержания старых и немощных? Неужто его имя станет синонимом гнета, неужто он превратится в пример алчности англиканского духовенства? Скажут ли, что он ограбил стариков, которых так искренне любил всем сердцем? Час за часом мистер Хардинг расхаживал под величавыми липами, погруженный в свои печальные мысли, и почти окончательно утвердился в решении предпринять какой-нибудь значительный шаг, который убережет его от столь ужасной судьбы.
Тем временем архидьякон в прекрасном расположении духа продолжил утренние труды. Он перемолвился словом-другим с мистером Чедуиком, затем, обнаружив, как и ожидал, что петиция лежит в отцовской библиотеке, написал короткий ответ, в котором сообщал пансионерам, что у них нет никаких оснований жаловаться на ущемление прав, а, напротив, есть все основания благодарить за оказанные им милости, затем, проследив, чтобы отец подписал письмо, сел в экипаж и отправился домой к миссис Грантли, в Пламстед.
Глава VI
Чай у смотрителя
После долгих сомнений лишь на одном мистер Хардинг смог остановиться окончательно: он решил, что ни в коем случае не будет обижаться и не позволит этому вопросу поссорить его с Болдом или пансионерами. Во исполнение задуманного он, не откладывая, написал мистеру Болду записку с приглашением в указанный вечер на следующей неделе послушать музыку в кругу нескольких друзей. В нынешнем состоянии духа мистер Хардинг, наверное, предпочел бы обойтись без увеселений, однако он еще раньше пообещал Элинор этот маленький прием. Так что когда она заговорила с отцом о приглашениях, то была приятно удивлена его ответом:
– Я тут думал о Джоне Болде, так что написал ему сам. А ты напиши его сестре.
Мэри Болд была старше брата, и ко времени нашего рассказа ей исполнилось тридцать. Она была миловидна, хотя далеко не красавица, но более всего в ней покоряла доброта. Мэри не отличалась ни особым умом, ни особой живостью, не обладала деятельной энергией брата, однако руководствовалась в жизни высокими принципами добра и зла, нрав у нее был мягкий, а достоинства преобладали над недостатками. При первой встрече она не оставляла сильного впечатления, но внушала любовь всем, знавшим ее близко, и чем дольше продолжалось знакомство, тем сильнее становилась эта любовь. В число тех, кто питал к ней самую теплую приязнь, входила Элинор Хардинг. Они никогда прямо не разговаривали о брате Мэри, и все же каждая понимала, что другая к нему испытывает.
Когда принесли записку, брат и сестра сидели вместе.
– Как странно, что они прислали два приглашения, – заметила Мэри. – Если уж мистер Хардинг завел у себя модные порядки, то я просто не знаю, чего ждать следующим.
Брат тут же понял, что ему предлагают мир. Однако он находился в более трудном положении, чем мистер Хардинг: обиженному всегда проще проявить великодушие, нежели обидчику. Джон Болд чувствовал, что не может пойти в гости к мистеру Хардингу. Его любовь к Элинор была сильна как никогда, а препятствия лишь усилили желание поскорее назвать ее своей женой. И все же, хотя ее отец сам предлагал убрать эти препятствия, Джон Болд чувствовал, что не может больше переступить его порог в качестве друга.
Покуда он сидел с запиской в руке, размышляя, сестра ждала его решения.
– Ладно, – проговорила она. – Наверное, надо отправить два ответа и в обоих написать, что мы придем с радостью.
– Ты, конечно, иди, а я не могу, – сказал он с печальной серьезностью. – Всем сердцем хотел бы пойти.
– Так почему нет? – удивилась Мэри. Она еще не слышала о новом злоупотреблении, которое взялся искоренить ее брат, по крайней мере не слышала в связи с его именем.
Он некоторое время раздумывал, потом решил, что лучше сразу объяснить все обстоятельства, все равно рано или поздно придется.
– Боюсь, я больше не могу бывать у мистера Хардинга по-приятельски, по крайней мере сейчас.
– Отчего, Джон? Что случилось? Ты поссорился с Элинор?
– Нет, – ответил он. – С нею я пока не ссорился.
– Так в чем же дело? – Мэри глядела на него с любящей тревогой, зная, как дорог брату дом, в котором он, по собственным словам, не может больше бывать.
Джон ответил не сразу:
– Видишь ли, я взялся помогать двенадцати старикам в Хайремской богадельне, и, разумеется, это затрагивает мистера Хардинга. Возможно, мне придется вступить с ним в противостояние; возможно, я больно его задену.
Мэри некоторое время прямо смотрела ему в глаза, прежде чем ответить, но и тогда спросила лишь, что он намерен сделать для стариков.
– История долгая, и я не уверен, что ты все поймешь. Джон Хайрем завещал имущество на содержание бедных стариков, а доходы, которые должны идти этим старикам, попадают главным образом в карман к смотрителю и епископскому управляющему.
– А ты решил отобрать у мистера Хардинга его долю?
– Я еще не знаю, что решил. Я хочу разобраться, выяснить, кто имеет право на эту собственность, и, если сумею, восстановить справедливость по отношению к барчестерским беднякам в целом, поскольку фактически именно они – отказополучатели по данному завещанию.
– И зачем ты это делаешь, Джон?
– Ты можешь задать этот вопрос кому угодно, – ответил он, – и получится, что бедняков не должен защищать никто. Если действовать по этому принципу, то не надо вступаться за слабых, давать отпор беззаконию и отстаивать права бедных! – И Джон Болд почувствовал, как собственная добродетель придает ему сил.
– Но разве некому этим заняться, кроме тебя? Ты знаешь мистера Хардинга столько лет! Как друг, как младший друг, Джон, много младше мистера Хардинга…
– Это женская логика от начала до конца, Мэри. При чем тут возраст? Другой человек тоже может сослаться на старость. А что до дружбы, личные мотивы не должны мешать борьбе за правду. Неужто мое уважение к мистеру Хардингу – повод пренебречь долгом по отношению к старикам? Неужто страх лишиться его общества не даст мне исполнить веление совести?
– А Элинор? – спросила Мэри, робко заглядывая ему лицо.
– Элинор… то есть мисс Хардинг… если она… то есть если ее отец… вернее, если она… или, скорее, он… коли они сочтут нужным… но сейчас совершенно нет надобности говорить про Элинор Хардинг. Скажу одно: если я в ней не ошибаюсь, то она не осудит меня за то, что я следую долгу. – И Болд обрел подобие душевного покоя в утешении римлянина.
Мэри сидела молча, пока брат не напомнил ей, что надо ответить на приглашения. Она встала, поставила перед собой письменный ящичек, взяла бумагу и перо, медленно вывела:
Пакенхем-вилла
Вторник, утро
Моя дорогая Элинор!
Я…
и поглядела на брата.
– В чем дело, Мэри, почему ты не пишешь?
– Ах, Джон, – сказала она, – дорогой Джон, прошу тебя, подумай еще раз.
– О чем?
– О богадельне… о мистере Хардинге… о том, что ты говорил про тех стариков. Никто… никакой долг не требует от тебя ополчаться против лучшего, самого старинного друга. И Джон, подумай об Элинор. Ты разобьешь сердце и ей, и нам.
– Чепуха, Мэри. Сердцу мисс Хардинг ничто не угрожает, равно как и твоему.
– Умоляю тебя, ради меня, остановись, ты ведь ее любишь! – Мэри подошла и встала рядом с ним на колени. – Умоляю, остановись. Ты сделаешь несчастными себя, ее и ее отца. Ты сделаешь несчастными всех нас. И ради чего? Ради призрачной справедливости. Ты не добавишь тем двенадцати старикам ничего к тому, что у них уже есть.
– Ты не понимаешь, милая, – сказал он, гладя ее по голове.
– Я все понимаю, Джон. Понимаю, что это химера – твоя призрачная мечта. Я знаю, что никакой долг не требует от тебя такого безумного, такого самоубийственного поступка. Я знаю, что ты любишь Элинор Хардинг, и я говорю тебе сейчас: она тоже тебя любит. Будь это твой прямой долг, я последняя посоветовала бы тебе отказаться от него ради любви к женщине, но то, что ты затеял… Умоляю, подумай дважды, прежде чем решиться на шаг, который рассорит тебя с мистером Хардингом. – Мэри прижималась к коленям брата, и хотя тот молчал, по его лицу ей показалось, что он готов сдаться. – По крайней мере позволь мне написать, что ты придешь на прием. По крайней мере не рви отношения с ними, пока сам колеблешься. – И она поднялась на ноги, надеясь закончить письмо, как ей хотелось.
– Я не колеблюсь, – сказал он наконец, вставая. – Я не буду себя уважать, если отступлю от задуманного из-за красоты Элинор Хардинг. Да, я люблю ее. Я отдал бы руку, чтобы услышать от мисс Хардинг то, что ты сейчас о ней сказала, однако я не могу ради нее свернуть с избранного пути. Надеюсь, потом она поймет мои мотивы, но сейчас я не могу быть гостем в доме ее отца. – И барчестерский Брут отправился укреплять дух раздумьями о собственной добродетели.
Бедная Мэри Болд села и в печали закончила письмо. Она написала, что придет, но что ее брат, к сожалению, прийти не сможет. Боюсь, сестра не восхитилась его самопожертвованием, как оно того заслуживало.
Прием прошел так, как проходят все такие приемы. Были толстые старые дамы в шелках и стройные юные дамы в легком муслине; пожилые джентльмены стояли спиной к пустому камину и, судя по лицам, предпочли бы сидеть дома в собственных креслах; молодые люди смущенно толпились у двери, еще не набравшись смелости атаковать муслиновую армию, которая расположилась полукругом в ожидании схватки. Смотритель попытался возглавить вылазку, но, не обладая тактом полководца, вынужден был отступить. Его дочь поддерживала дух своего воинства кексами и чаем, однако сама Элинор не ощущала боевого задора – единственный враг, с которым она хотела бы скрестить клинки, отсутствовал, так что и ей, и остальным было довольно скучно.
Громче всех звучал зычный голос архидьякона, вещавшего перед собратьями-священниками об угрозе для церкви, о безумных реформах, которые, по слухам, готовятся даже в Оксфорде, и о губительной ереси доктора Уистона.
Впрочем, скоро в общем гуле робко проступили более сладостные звуки. В углу, отмеченном пюпитрами и круглыми табуретами, началось шевеление. Свечи вставили в канделябры, из тайников извлекли ноты, и началось то, ради чего все собрались.
Сколько раз наш друг подкручивал и докручивал колки, прежде чем решил, что они подкручены как надо, сколько немелодичных всхрипов прозвучало обещанием будущей гармонии! Как трепетали муслиновые складки, прежде чем Элинор и другая нимфа уселись за фортепьяно, как плотно высокий Аполлон вжался в стену, подняв длинную флейту над головами очаровательных соседок, в какой крохотный уголок забился кругленький младший каноник и с какой ловкостью отыскал там место, чтобы настроить привычную скрипочку!
И вот полилась музыка – громче, громче, потом тише, тише, в горку, под горку, то словно зовя в бой, то словно оплакивая павших. И во всем, сквозь все, над всем звучала виолончель. Ах, не зря эти колки столько подкручивали и докручивали – слушайте, слушайте! Теперь печальнейший из всех инструментов говорит в одиночку. Безмолвно замерли скрипка, флейта и фортепьяно, внимая плачу скорбной сестры. Но это лишь мгновение – меланхолические ноты еще не до конца проникли в сердце, а оркестр уже снова вступил в полную силу; ножки жмут педали, двадцать пальчиков порхают по басовым клавишам. Аполлон дует так, что его жесткий шейный платок превратился в удавку, а младший каноник работает обеими руками, пока не припадает к стене в полуобморочном изнеможении.
Почему именно сейчас, когда все должны молчать, когда вежливость, если не вкус, требует слушать музыку, – почему именно сейчас армия черных сюртуков перешла в наступление? Один за другим они выдвигаются с прежних позиций и открывают робкий огонь. Ах, мои дорогие, такой натиск не берет крепостей, даже если противник только и мечтает о капитуляции! Наконец в ход пущена более тяжелая артиллерия, медленно, но успешно; разворачивается атака, и вот уже муслиновые ряды дрогнули, смешались. Стулья оттеснены, бой идет уже не между двумя армиями – он распался на поединки, как в славные времена рыцарских сражений. В уголках, в тени портьер, в оконных нишах и за полупритворенными дверями сыплются удары и наносятся смертельные раны.
Тем временем в стороне завязался другой бой, более суровый и трезвый. Архидьякон бросил вызов двум пребендариям, дородный ректор – его союзник в опасностях и радостях короткого виста[25]. Они сосредоточенно следят, как тасуется колода, зорко ждут, когда откроется козырь. С какой бережностью они распределяют карты, ревниво следя, чтобы не показать их соседу! Почему этот тощий доктор так медлителен – живой скелет с ввалившимся глазницами и впалыми щеками, недостойный представлять богатства своей матери-церкви? Что ты там копаешься, иссохший доктор? Посмотри, как архидьякон в немой агонии кладет карты на стол и возводит очи горе́, взывая о помощи не то к небесам, не то к потолку. Теперь он испускает тяжелый вздох; большие пальцы, заложенные в карманы жилетки, означают, что он не предвидит скорого конца пытки. Увы, тщетна надежда поторопить иссохшего доктора. С какой методичностью он перекладывает каждую карту, взвешивает цену каждого могучего туза, каждого короля сам-друг, каждой дамы сам-третей, раздумывает о валетах и десятках, считает каждую масть, прикидывает общий итог! Наконец он заходит, три карты одна за другой ложатся поверх. Сухонький доктор вновь кладет карту, и его партнер, сверкнув глазами, берет взятку. Третий заход – и в третий раз фортуна улыбается пребендариям, но на четвертый архидьякон пригвождает поверженного короля к земле, прихлопнув его – корону и скипетр, курчавую бороду и насупленное чело – простой двойкой.