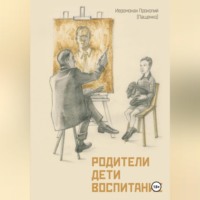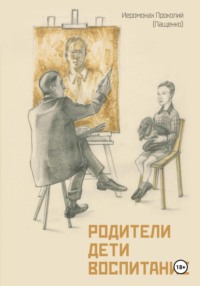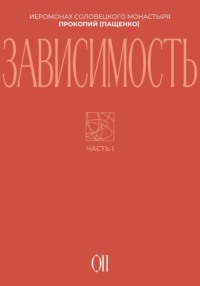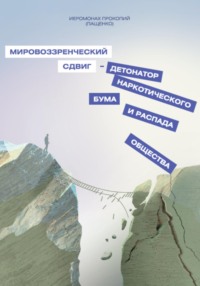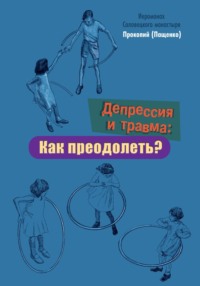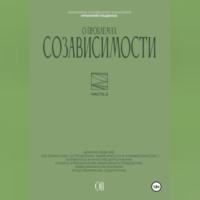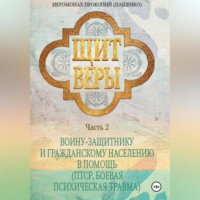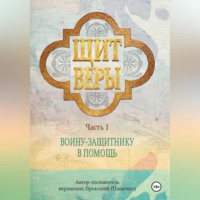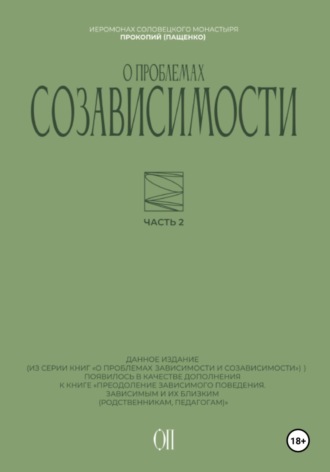
Полная версия
О проблемах созависимости
Перестав желать и любить Бога, человек преисполнился плотской любви к самому себе (которую святые отцы, в особенности преподобный Максим, называют себялюбием), а также к чувственной реальности, получая отныне всё удовольствие и наслаждение от себя и от этой реальности. «Люди, – пишет святитель Афанасий Великий, – …впали в самовожделение, предпочитая собственное благо созерцанию Божественных реальностей»[34].
О том, как сила вожделения соединена с прочими двумя силами (силой напряжения и силой словесной (разума)); о том, как все вместе, извратившись, эти силы принимают участие в формировании аддикций; о том, как исцеление этих трёх сил помогает выйти из алгоритма аддиктивного поведения см.:
В разделе «Приложение 1. Расшифровка фрагментов лекции, проведённой в центре "Неугасимая надежда"» из части 1 текста «Преодоление игрового механизма (о игре в широком смысле слова)».{95}
В тексте «ТРИ СИЛЫ: Цель жизни и развязавшееся стремление к игре (казино, гонки, игра по жизни)».{42}
Если картина мира не сформирована, а какой-нибудь автор смотрит на человека только исходя из каких-то внешних активностей, то он начинает путаться. Ведь многие активности снаружи выглядят как некая тяга к ближнему, но в одних случаях это конструктивный благодетельный обмен с ближним, в других – аномальная привязанность. Ведь бывает, например, что общение с ближним начинается вовсе не по любви к нему. Человек, например, может впасть в уныние и начать ходить по гостям, и хождение по гостям может стать аддикцией. То есть ходить по гостям – это неплохо, даже очень хорошо и даже здорово. Апостол Павел говорит: «Благотворения же и общения не забывайте, ибо такими жертвами благоугождается Бог» (Евр. 13:16). Но одно дело, когда мы ходим к ближнему, потому что он нам интересен, а другое дело – когда мы убегаем от собственной тревожности и ближний для нас является инструментом решения наших вопросов.
Основа аддикции – инструментальное отношение к ближнему
Как писали некоторые современные авторы, основа аддикции – это инструментальное отношение к человеку. Столкновение с действительностью разочаровывает аддикта. «Появляется идея о возможности не считаться с людьми, относиться к ним «инструментально», тем более что есть возможность получать кайф и в одиночку посредством аддиктивного образа действия, используя вещество или активность, изменяющие психическое состояние. Можно получать удовлетворение, вступая в сексуальный контакт с другим человеком, исключая понятия интимной близости и любви. В данном случае речь идёт в большей степени о чисто физическом контакте. Такое поведение приводит к тому, что идеальный способ удовлетворения основных потребностей – стремление к установлению близких контактов с Другими людьми всё более ослабевает. Нарастание изоляции от межличностных контактов является основной проблемой любой аддикции»[35].
Либо человек пытается заглушить собственную тревожность, и потому он вступает в очень насыщенные отношения с окружающей средой и с ближними, либо он пытается привлечь внимание к собственной персоне и поэтому вступает в активное отношение с окружающей средой и с ближними. Например, научно описан синдром Мюнхгаузена-прокси[36].
Речь идёт о дисфункции, при которой женщина намеренно калечит своего ребёнка либо приписывает ребёнку какие-то диагнозы и начинает искать врачей, которые бы эти диагнозы подтвердили.
И потом она начинает ребёнка лечить, вызывая у всего медперсонала клиники восхищение собственной персоной. Её все начинают считать матерью, которая пожертвовала всею жизнью ради здорового ребёнка, и в каком-то смысле женщина питается этими эмоциями. То есть если судить только по одному внешнему признаку, то мы не поймём, где деятельное внимание к ближнему, где любовь, а где – нездоровая привязанность. И соответственно, в теории созависимости мы и видим эту неспособность к различению. Например, теория созависимости основана на 12-ти шаговой программе, и на первых шагах этой программы человека призывают «заняться собой», а не включаться в жизнь зависимого родственника. Но на двенадцатом шаге программы начинают призывать нести весть другим и жить для других. Неужели на 12-м шаге человек снова приходит к зависимости?
Румынский старец архимандрит Клеопа (Илие)[37] в своей книге «О снах и видениях» приводит интересное мнение про тщеславие. Это мнение можно применить и к теме отношений с ближним. Он комментирует два поступка, внешне похожих. Когда человек говорит о своих добрых делах, в одном случае его мотив – это личная слава, и тогда это тщеславие. Но в других случаях, если тут развить мысль старца Клеопы и применить её, например, к современности, человек может говорить – о совершении добрых дел, чтобы привлечь благотворителей к какимто социальным проектам. И тогда здесь тщеславия нет. То есть важно смотреть, из каких мотивов слагается внешняя деятельность человека. Если мы утрачиваем картину мира, то это различение становится невозможным.
Проблема аддиктивного агента
В отношении Адама и Евы можно привести ещё несколько комментариев. Священник Александр Ельчанинов в своей замечательной статье «Демонская твердыня (о гордости)» схематически описал не только этапы развития гордости, но и схему развития всего дальнейшего гибельного процесса. Эта схема применима для описания как теории созависимости, так и игромании, наркомании и любой другой аддикции. То есть его схема очень хорошо наслаивается на ту схему, которую описала современная аддиктология. Человек, испытывая некое некомфортное состояние, пытается найти утешение в некоем аддиктивном агенте. Этим аддиктивным агентом может быть что угодно: социальная организация, походы в гости, алкоголь, наркотики, отношения с Другим. И у человека возникает ощущение, что у него появляется некая волшебная таблетка, с помощью которой он может по своему произволу менять своё внутреннее состояние. То есть ему было грустно – он вошёл в какую-то активность, и стало ему как будто весело.
О том, как формируется аддиктивный процесс, который поначалу воспринимается с позиции эйфории, рассказывается в главе 5-й части текста «Мировоззренческий сдвиг – детонатор наркотического «бума» и распада общества».{98}
Но проблема в следующем: по мере того как человек всё более и более педалирует эту активность, разрывается его благодетельное взаимоотношение с окружающей средой; прочие стороны жизни человека нивелируются, соответственно, человек теряет возможность каким-то образом контролировать степень своего погружения в процесс.
Ведь аддикцией может стать, как уже было сказано, хождение, например, по гостям. То есть в какой-то момент человек уже не сможет, например, не ходить по гостям, потому что, если он остаётся дома, он остаётся наедине с какими-то тревожными мыслями, с неустроенностью собственной жизни. Отец Александр[38], автор статьи, приводит те же упомянутые выше слова святителя Афанасия Великого о том, что в результате грехопадения первые «впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию божественному». То есть многие активности, внешне проявляющиеся как некое аномальное влечение к другим людям или каким-то внешним процессам, имеют на самом деле источником внутреннюю неустроенность.
Например, психолог Ирина Медведева в своём интервью каналу «Эмпатия Манучи» рассказывала, что призывала взрослых не обольщаться, когда дети беспокоятся о здоровье взрослых. По её мнению, дети в данном случае заботятся о себе. Если продлить мысль Ирины Медведевой, то можно сказать, что дети просто переживают о том, с кем они будут играть, кто о них будет заботиться.
Выше упоминалась Катерина Ивановна из «Братьев Карамазовых», которая считала, что она является инструментом для счастья Мити. И отец Александр в своей статье приводит мысль Достоевского о том, что некоторые люди «в самом чувстве собственного унижения посягнули отыскать наслаждение» (Достоевский «Записки из подполья»).
Некоторые люди начинают питаться мыслями о собственном несчастье, и в этом собственном несчастье начинают видеть какую-то собственную исключительность. То есть они уже не просто пустые нарывы на теле бытия, если сказать образно, а они уже из себя представляют нечто, потому что способны переживать такие глубокие страдальческие чувства. В качестве ещё одного примера здесь можно привести повесть Куприна «Гранатовый браслет». Опять здесь видим ситуации, когда предмет обожания становится как бы идолом, к которому относятся слова: «В предсмертный печальный час я молюсь только тебе». К женщине по имени Вера, ставшей идолом, мужчина относит слова из молитвы «Отче наш» – «Да святится имя Твое».
Примечательно, что кризисный психолог Михаил Хасьминский[39], специализирующийся на профилактике суицидов, недоумевал по поводу включения «Гранатового браслета» в школьную программу, считая этот шаг, если мягко сказать, непродуманным[40].
В качестве комментария к опасениям Михаила Игоревича можно привести пример, показывающий, как в рамках данного произведения понимается любовь.
Генерал рассказывает, что в одном из полков их дивизии была жена полкового командира. Она была некрасивой, но, что называется, «роковой» женщиной: «этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок – морфинистка». Однажды в полк прислали нового прапорщика, совсем молодого юношу, который только окончил военное училище. Через месяц «эта старая лошадь» совсем овладела им. Юноша стал сам не свой. Как описывает его генерал: «Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер её в танцах, носит её веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать её лошадей». Генерал сам комментирует такую «любовь»: «Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы… Это – штамп на всю жизнь».
Через несколько месяцев юный прапорщик надоел женщине, которая к тому моменту «вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий». Юноша не мог смириться с таким поворотом событий, целые ночи простаивал под её окнами, стал совсем плохо выглядеть, похудел и т. д. В итоге весной, после большого пикника в полку, на котором было много выпито, герои возвращались ночью пешком по полотну железной дороги, и женщина вдруг прошептала этому прапорщику на ухо: «Вы все говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу – вы, наверно, под поезд не броситесь». Прапорщик бросился под проходящий мимо поезд. Его пытались удержать, поэтому он не погиб, но, поскольку он вцепился в рельсы, ему отрезало обе кисти рук. Служить он больше не мог. «И пропал человек, – говорит генерал, – самым подлым образом… Стал попрошайкой… замёрз где-то на пристани в Петербурге».
Генерал рассказывает и другой случай, когда молодая и красивая женщина изменяла своему мужу в его собственном доме, а он на всё закрывал глаза: «Пусть только Леночка будет счастлива!..»
Удивительно, что сам генерал восхищался «настоящей любовью, о которой грезят женщины», и поведением мужчины, который посылал Вере записки и который многие годы наблюдал за Верой, а потом, когда был раскрыт, покончил с собой…
Видимо, этот генерал был не в курсе, что, например, древнегреческий язык знает 7 видов любви: 3 вида разрушительные, 4 – положительные. Первой среди разрушительных один духовный автор указал вид любви, называемый «эрос». «Эрос – восторженная, пылкая влюблённость. Многие люди считают, что эрос связан с сексуальными взаимоотношениями – нет, сексуальный план всегда на 2-м месте идёт в эросе, это всё равно духовное состояние. Отрицательное значение его в том, что тот, кого человек любит, становится для него богом, кумиром, объектом поклонения»[41] (об остальных видах любви каждый может узнать самостоятельно, познакомившись с объяснением, из которого была взята цитата).
По всей видимости, в произведении Куприна описывается этот вид любви, и этому виду любви присваивается статус настоящей. Прочие виды любви, положительные, обходятся стороной.
Выше упоминалось произведение Стефана Цвейга «24 часа из жизни женщины», в котором рассказывалось, как женщина была вовлечена в водоворот пристрастия к молодому человеку, заточенному на игру. Цвейг даёт описание духовного состояния человека, который сам о нём и не подозревает. Когда за желанием помочь, спасти стоит гордыня, которая увлекает человека в самый невозможный жизненный сценарий, мысль о котором невозможно было и допустить. Такой невероятной кажется эта история: скучающая женщина за сорок, как в театре, наблюдающая за чужими переживаниями в казино, вдруг, словно ветром, оказывается захвачена в стихию молодого двадцатипятилетнего страстного игрока… И она не видит, не понимает, кто перед ней, не замечает, как он с ней разговаривает, за кого принимает вначале, она увлечена одной идей – спасти его… В психологической литературе эта тема спасательства занимает отдельное место, но там другие объяснения этого феномена, Цвейг же показывает, что есть и глубокие духовные корни…
«И я должна спасти его».
«Исступлённого желания помочь».
«Я испытывала радость, гордость при мысли, что, если бы я не принесла себя в жертву, этот молодой, хрупкий, красивый человек, лежавший здесь безмятежно и тихо, словно цветок, был бы найден где-нибудь на уступе скалы окровавленный, бездыханный».
«Он был спасён, и спасла его я».
«…меня охватило такое чувство, словно я в церкви, блаженное ощущение чуда и святости».
«Всякое существование без определённой цели – бессмысленно. Теперь впервые мне выпала задача: спасая человека, я огромным усилием воли вырвала его из небытия». «Желание жить, радостное сознание, что я кому-то нужна, горячо волновало кровь»
Помимо прочего, в произведении рассказывалось, как она попросила его дать клятву в том, что он не будет играть. «Вы посланы мне богом, я возблагодарил Его», сказал молодой человек. Я не нашлась, что ответить. Но я от души пожелала, чтобы под низкими сводами вдруг зазвучал орган, ибо я чувствовала, что добилась своего: этот человек спасён мною навсегда».
«Я смущённо отворачивалась, так сильно волновало меня зрелище сотворённого мной чуда».
Посмотрите, каким невероятным образом у героини запутывается в голове реальность. После ночи с незнакомым человеком помысел убеждает, что смотрит она на него материнскими взглядом! Это ли не иллюзия и обман?! Как тонко это подмечено: «И я смотрела материнским взглядом (иначе не могу назвать) на спящего, которого я вернула к жизни». Разве в этой ситуации речь может идти о материнском чувстве? И тем не менее мысли убеждают её в чистоте и невинности: «Он стал совсем мальчиком, красивым, резвым ребёнком, с весёлым и в то же время почтительным взглядом, и больше всего восхищала его чуткость». Такая видимость нежного чувства…
И всего несколько часов спустя: «если бы этот человек обнял меня в ту минуту, позвал меня, я пошла бы за ним на край света, я опозорила бы своё имя, имя своих детей… презрев людскую молву и голос рассудка… я пожертвовала бы для этого человека своим добрым именем, своим состоянием, своей честью… я пошла бы просить милостыню, и, наверно, нет такой низости, к которой он не мог бы меня склонить… И вдруг я осознала, чего я хочу: пойти на всё, только не отпускать его! В течение одной роковой секунды это желание стало решением».
Вот вам и невидимая брань вживую!
Эта невидимая брань перекликается со словами одной женщины. Вот что она пишет: «Хотела поделиться с вами мыслями насчёт причины пьянства моего мужа. Я подумала о том, что люблю своего мужа неправильно, слишком обожествляю, постоянно липну к нему как липучка, прошу его внимания, говорю о чувствах к нему, возможно, его эта моя навязчивость отталкивает, но самое главное это то, что я мужа ставлю выше всего, прямо жить без него не могу, хоть он и алкоголик. А ведь на первом месте должен быть Бог, потом – всё остальное. Возможно, это нарушение духовного закона. И вот я попробовала поменять своё поведение, стала поспокойнее. И мне кажется, это положительно действует. Пока не знаю, как дальше всё будет, но я пробую не погружаться с головой в отношения с ним, то есть – любить, но спокойно, без фанатизма. Может, такая страстная любовь и называется созависимостью в современном мире».
Может, и не под каждым словом здесь уместно подписаться (причин для употребления алкоголя – масса и иных), но в целом в этом наблюдении есть смысл. Нарушение духовных принципов приводит отношения к деформации. Вторая важная идея – женщина поняла, что не сепарация сама по себе нужна, а обращение к определённым духовным законам. Тогда и без отвержения другого человека равновесие в отношениях выстраивается само собой. В отношении страстных, до проваливания в другого, чувств, если они предполагают обоюдное действие (один манипулирует или избегает, другой подчиняется или настигает), то в современном дискурсе такие отношения могут получить статус созависимых. Некоторые мысли на этот счёт были высказаны в цикле бесед «Любовная зависимость».
8.2. Ревность, жажда обладать. «Несчастная» любовь. Гиперфиксация. Создание перевеса, иные струны.{101}
9. Мужчина и женщина: философия. Мужчина, идентичность, дело. Женщина и поглощение. Роден и Клодель.{102}
10. Влюблённость, таланты – конструктив и иное. Желание раствориться в другом человеке. Любовь и аномалии.{103} 11. Аддикция – обеднение личности. Восстановление – палитра бытия. Настасья Филипповна. Гордость и компульсия.{104}
13. Защита от очарования. Психопаты. О т. н. созависимости. Гордость и необходимость смириться.{105}
14.1. Симбиотические отношения. Какие-то критерии, чтобы не провалиться в дичь.{106}
14.2. Симбиотические отношения. Суицид. Жажда обладать. Непостоянство. Навыки для выхода из.{107}
15.1. Симбиотические отношения. Слияние. Избыточная погружённость в чувства.{108}
15.2. Провал в другого. Снятие тормозов, транс. Гамма бытия. Тяга к гомосексуальным отношениям.{109}
Несколько примеров на тему того, что внешняя активность, имеющая окраску христианской любви, может быть обусловлена фиксацией на каких-то собственных переживаниях
Согласно статье о. Александра Ельчанинова, гордыня – это и есть фиксация на собственных переживаниях. Человек может внешне быть очень униженным, но гордость ведь не всегда проявляется как мания величия. Гордость может проявляться как фиксация на каких-то собственных идеях. И нищий может гордиться своей иголкой.
Одна врач-педиатр говорила, например, что мама должна научиться болеть вместе с ребёнком. То есть – у ребёнка температура, и мама должна как-то вместе с ребёнком, с молитвой, но терпеливо пройти этот путь, терпеливо отнестись к его болезни. О чём идёт речь? Во всех институтах мира объясняют, что температура является средством, с помощью которого организм пытается победить заболевание. Но почему-то на практике люди начинают температуру сбивать[42].
Цитируемая педиатр как раз говорит, что мама в данном случае, сбивая температуру, лечит не ребёнка, а свою тревожность. Ей тяжело видеть, как ребёнок болеет, и она поэтому принимает решение гасить болезнь жаропонижающим, хотя это неполезно для ребёнка. Есть даже известный хэштег «я_же_мать». Цитируемая педиатр приводит в пример множество собственных пациентов-детей, которые после температуры выходили из какого-то заболевания обновлёнными. Она даже мерила рост детей после температуры – плюс два сантиметра.
Ещё можно привести пример одного иеродиакона, который внешне производил впечатление очень смиренного человека и, возможно, таковым и был, но внутри у него была какая-то фиксация на собственных моделях. Автор имел опыт личного общения с этим иеродиаконом, когда автор был ещё послушником, и ему приходилось в одном монастыре складывать облачения. Автор удивлялся, почему этот иеродиакон складывает облачение очень сложным, каким-то специфическим образом, и на это уходило больше времени, чем складывать облачение другими способами. И на вопрос, почему он так делает, иеродиакон поделился своей концепцией. Он сказал, что священники входят в алтарь утром невыспавшимися, склонными к раздражению, и если они видят облачение и не видят сверху крестика, то они будут раздражаться. И поэтому надо было так специфически складывать облачение, чтобы сверху был один крестик. Но на вопрос, слышал ли от кого-то из священников этот иеродиакон претензии по поводу сложенных облачений, тот ничего не мог сказать. Но если ему кто-то пытался поставить под сомнение правомочность этой схемы, у него начиналась тревожность, он начинал повторять, что его так научили.
Переубедить его было практически невозможно. В трапезной, при обилии еды на столах, он не мог спокойно есть. Он ел, кстати, крайне мало, но считал, что если он две ложки себе положит в тарелку, то кто-то должен прийти и остаться голодным, хотя все уже поели. И здесь тоже переубедить его было практически невозможно, можно было только положить ему в тарелку ещё еды. То есть внешне это была якобы забота о других, но при ближайшем рассмотрении это была фиксация на собственных моделях. Удивительно, что внешне он производил впечатление сломленного человека, но внутри он чрезвычайно крепко стоял на собственных убеждениях. Возможно, здесь как раз не хватало… некоторого смирения.
О необходимости смирения
Идея смирения сейчас дискредитируется, но здесь можно упомянуть монахиню Елену (Казимирчак-Полонскую) и её замечательную книгу «О действии благодати Божией в современном мире». Эта книга начинается с описания Второй мировой войны. Голод. Она снимает жильё. Но жильё и еду можно получить только за твёрдую валюту, потому что идёт война и каждый человек может быть убит, – поэтому никакие обещания отдать завтра не принимаются. И один человек предлагает ей идти в Варшаву с мандатом, который обеспечивает прохождение внутрь города, и вынести оттуда золото.
После восстания евреев Варшава была оцеплена. Все, кто находился в Варшаве без мандата, расстреливались. Ей не понравилось, как вёл себя предлагавший ей эту сделку человек – его голос и манеры. Но она старалась молиться и поняла, что есть воля Божия идти в Варшаву. «Елене неприятен был безапелляционный тон его беседы, но она привыкла смирять себя и слушала только голос своей совести, следя за состоянием своей души. В сердце был мир, и она внутренне чувствовала, что весь этот неожиданный проект – дар безмерной любви Господа».
Смирение – это то, что позволяет человеку отодвинуть собственные субъективные, хаотизированные переживания. При условии, что ты видишь, в чём состоит воля Божия, ты видишь, куда тебе идти. А при нехватке смирения человек выбирает ориентацию на собственные субъективные переживания. И его очень трудно убедить в обратном.
Если взять современную версию госпожи Красоткиной, то крайне тяжело такую маму убедить в том, что не надо ребёнку звонить каждые 15 минут и так далее.
Процесс ломания себя. Роман «1984»
Если быть очень осторожным, то отчасти (ещё раз – если быть очень осторожным) теорию созависимости можно сопоставить с тем, что главный герой романа «1984» произвёл сам с собой. Когда он оказался в заключении, ему нужно было отказаться от любви к Джулии. Роман описывает тоталитарный строй, и отношения главного героя с Джулией – это единственное, что у них обоих было. И они друг другу поклялись, что, даже если их бросят в застенки, они не отрекутся от любви друг ко другу. Некоторое время Уинстон – так звали главного героя – пытался сопротивляться той моноидее, которую транслировал тоталитарный строй.
Но со временем он решил переформатировать собственную личность, чтобы полностью влиться в окружающий порядок. Мы уже говорили выше, что подавление личности ведёт к тому, что она переключается на внешний регламент. И как раз в этом романе хорошо описано, как Уинстон производил нечто вроде медитации, чтобы адаптироваться к окружающему порядку. Он, например, пытался составлять логические цепочки, которые бы показывали, что дважды два равно пять. Со временем он наловчился не видеть белых пятен. То есть если он размышлял о чём-то и правда неотвратимо вставала перед ним, и он не мог эту правду в самом себе оболгать, то он формировал некое слепое пятно. Можно сказать, что он ломал себя под какую-то доктрину. И со временем из его сердца вырвали память о Джулии.
Надо помнить, что, как будет сказано в дальнейшем докладе, теория созависимости возникла в атомизированном обществе, где уже, в принципе, утрачена смысловая вертикаль и то мировоззрение, которое позволяет человеку подняться над какими-то биологическими импульсами и над импульсами, идущими из окружающей среды. То есть какого-то решения проблемы, основанного на культурной стратегии, в данном обществе предложить уже не могут. Если такая концепция переносится на нашу почву, надо учесть, что всё-таки в нашей стране люди пока ещё принадлежат к иной ментальности. Некоторые понимают, что не всё так просто. Если ты делаешь один шаг, то этот шаг вступает в противоречие с иными аспектами твоей жизни, нарастает ощущение внутреннего конфликта. И человек либо уходит из группы для созависимых, во внутренний конфликт с которой он вошёл, либо ломает себя. Именно этот процесс самостоятельного ломания себя и показан в романе «1984».