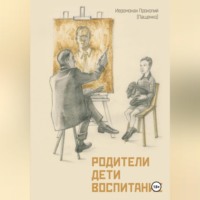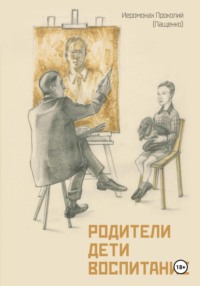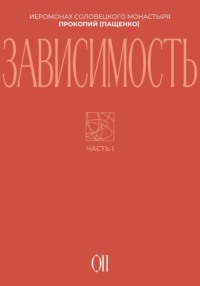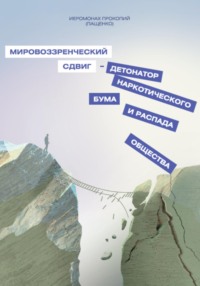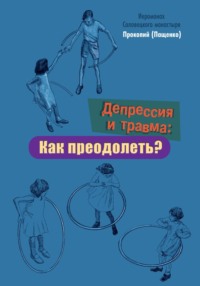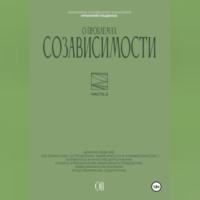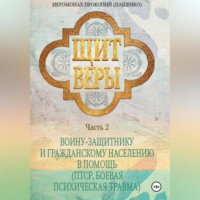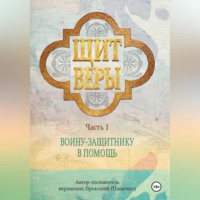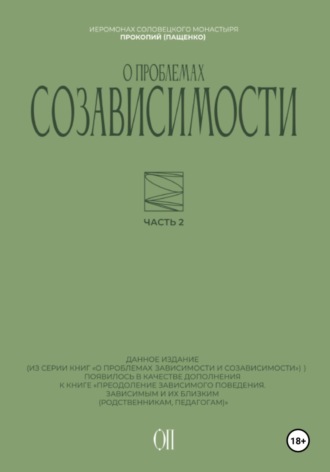
Полная версия
О проблемах созависимости
Однако люди не могут жить без морального компаса и идеала, к которому можно было бы стремиться. Наряду с релятивизмом, как пишет Питерсон, наблюдается «рост нигилизма и отчаяния». А также наблюдается противоположность релятивизму – «слепая уверенность, предлагаемая идеологиями, которые утверждают, что у них есть ответы на всё» (возможно, сюда можно подставить те самые тренинги, о которых речь шла выше, и пр.). Автор приводит в пример ситуации, когда люди записываются на курсы, чтобы изучить величайшие книги, но на курсах им преподают не книги, а идеологические атаки на них. Причём эти атаки основаны «на ужасающем упрощении» (о чём было сказано выше). Идеолог, в отличие релятивиста, как пишет автор, «склонен к гиперосуждению и цензуре, он всегда знает, что с другими не так и что с этим делать. Иногда кажется, что единственные люди, которые в релятивистском обществе хотят дать совет, – это те, кто меньше всего может предложить» (в основном – сепарацию).
Свои 12 правил в книге (в которой, безусловно, есть дискуссионные моменты) Питерсон не развивает так, как будто начинает с чистого листа, «отвергая тысячелетнюю мудрость, будто это простое суеверие, и игнорируя наши величайшие моральные достижения». То есть он как раз не утверждает, «будто человеческая мудрость началась с него». Если дать ему слово, то от него можно услышать мысль, что если у человека не будет упорядочивающих принципов, то хаос засосёт его. Он отмечает, что «мы должны стоять на прямом и узком пути». Мы нуждаемся в смысле, который даёт объяснения причинам страдания. Он отмечает, что, с одной стороны, можно «преодолеть рабскую приверженность группе и её доктринам и одновременно избежать ловушек противоположной крайности, нигилизма». С другой стороны, человек хочет найти себя, но так как у него наблюдается дефицит высших смыслов, то себя он пытается найти лишь в противопоставлении чему-либо, что, конечно, не даёт ему опоры.
Так, иные современные авторы отмечают, что современный человек пытается найти свою идентичность, но не в положительном измерении, а лишь в оппозиции к существующему тренду. Но если положительного содержания жизни не найдено, то свою идентичность человек пытается выстроить, примыкая «к виртуальной группе с трендовыми ценностями», то есть, примыкая к иному тренду. Но что у человека остаётся за душой? Не та ли пустота «от которой спасаются регулярной сменой идентичностей, офшоризованных практик и мантр об аутентичности?»
Человек, не имеющий основы для осмысления личности, в мечте о идентичности, приходит к мельканию череды активностей, к «перформативной аутентичности». То есть, конструируя личную жизнь, он приходит к персональному перфомансу. Его жажда подлинного существования реализуется с помощью подборки «популярных рекомендаций на уровне мотивационных картинок и не раз упоминавшейся self-help литературы, уверенно предлагающей различные инструкции по тому, как стать автором своей жизни».
Такой человек хватается за тренд «выстраивания границ», но что он пытается защитить этими границами? Свой очередной поход в кино? Границы современного человека как будто отличаются лишь «субъективными предпочтениями и затратностью» (то есть кто-то следует правилу не есть в заведениях того класса, который он считает недостойным себя. Кто-то приватность видит в том, что покупает спортивную одежду только определённой фирмы). «Суть остаётся одна: где-то в глубине беспокоящая нас жизнь настойчиво требует какой-то приватности, но мы не знаем, что это и как, а настырный Гугл-поиск подсовывает лишь приватные чатики, веб-камеры, приват-сервера и закрытые сейшены»[20].
Человек страдает от другого человека или от какого-то явления. Чтобы обрести опору, начинает ходит на тренинги, где его обучают сепарации. И в итоге он иногда «заигрывается» в сепарацию в фиксации на «себе любимом». На этих путях он рискует прийти к одиночеству, унынию, выход из которых иногда начинает искать в связях и явлениях, подобных тем, от которых бежал в начале.
В чём же – надспорный путь?Надспорный путь Питерсон видит «в индивидуальном сознании и опыте». С одной стороны, человек уходит в конфликт (например, с окружением). Но, с другой стороны, пытаясь вырваться из конфликта путём отрицания, сталкивается с психологическим и социальным распадом (реализует сепарацию). Как же человек может освободиться от этой ужасной дилеммы? Питерсон даёт такой ответ: человек может освободиться «через возвышение и развитие личности и через готовность каждого взять на себя бремя Бытия», вступить на путь деятельных, основанных на высших смыслах поступков. «Мы, каждый из нас, – считает он, – должны говорить правду, исправлять то, что пришло в негодность, ломать и заново отстраивать то, что устарело. Это требует многого. Это требует всего. Но альтернатива – ужас авторитарных убеждений, хаос разрушенного государства, трагическая катастрофа необузданного мира природы, экзистенциальный страх и слабость бесцельного человека – очевидно хуже». «Возможно, – продолжает он, – если бы мы жили правильно, нам бы не пришлось обращаться к тоталитарной определённости, чтобы защититься от сознания собственных недостаточности и невежества (под тотальной определённостью можно, по всей видимости, понимать те же тренинги, в рамках которых всем даётся упрощённая доктрина в отношении всего). Если люди будут «жить осмысленной жизнью. Если каждый из нас будет жить правильно, вместе мы будем процветать» (эта мысль, в том числе, является главной и для данного текста).
Человек является не только телом, у него есть ещё дух, душа. «Стоять прямо, расправив плечи» – это не только физическое действие. Человек ещё обязан подняться «в метафизическом смысле»: «Стоять прямо, расправив плечи, значит, построить ковчег, защищающий мир от потопа, вести свой народ через пустыню, после того как он избежал тирании, прокладывать свой путь вдали от домашнего комфорта и своей страны, проповедовать тем, кто пренебрегает вдовами и детьми. Это значит нести крест, который означает место Икс, где вы и само Бытие таким ужасным образом пересекаетесь… Это значит противостоять растущей неопределённости и установить лучший, более осмысленный и продуктивный порядок»[21]. «Встать – значит, добровольно принять бремя Бытия», – говорит автор. Когда человек добровольно принимает требования жизни, его нервная система реагирует на них иначе. Он отвечает на вызов, а не вязнет в катастрофе. На этих путях человек перерабатывает «хаос потенциала в реальность пригодного для жизни порядка». Он добровольно принимает жертвы, необходимые, «чтобы создать продуктивную и осмысленную реальность. Говоря языком древних, это значит действовать так, чтобы ублажить Бога».
Интересно, что Питерсон говорит и о важности поддержания социальных связей на этом пути, и о том, что, принимая «бремя Бытия», мы сами облегчаем себе создание и поддержание этих связей и, как следствие, обретаем радость жизни: [на этих путях] «вам будет проще обращать внимание на тонкие социальные подсказки, которыми люди обмениваются при общении. Разговоры, которые вы ведёте, будут течь более плавно, в них будет меньше неловких пауз. Это позволит вам больше встречаться с людьми, взаимодействовать с ними… Это не только увеличит вероятность того, что с вами будут происходить хорошие вещи, но и сами эти хорошие вещи будут восприниматься ещё лучше, когда они произойдут. Таким образом, укрепившись и приободрившись, вы можете принять Бытие, работать над его развитием и улучшением. Набравшись сил, вы сможете выстоять, даже если ваш любимый человек заболеет, если кто-то из родителей умрёт, вы позволите другим обрести силу рядом с вами, когда их захлестнёт отчаяние… вы… позволите своему свету гореть, так сказать, на небесном холме… Смысла вашей жизни хватит, чтобы сдержать растлевающее влияние смертельного отчаяния. Тогда вы сможете принять ужасное бремя Мира и найти радость»[22].
Применительно к пути воина надспорный путь означает – не быть пассивным, но и не стать зверем. Быть способным взяться за Применительно к пути воина надспорный путь означает – не быть пассивным, но и не стать зверем. Быть способным взяться за оружие, но при том – не потерять способность в мирной жизни продолжить созидательный труд.
О надспорном пути см. главу «От составителя» в книге «Щит веры. Воину-защитнику в помощь (часть 1)».{60}
Раздел 2. Добавление к докладу на Рождественских чтениях о концепции так называемой «созависимости»
Введение: зачем написана эта часть. История сохранённого брака
Основная идея этой части состоит в обогащении – в духовном, культурном обогащении человека. В тексте приводится доклад на тему так называемой «созависимости», прочитанный в Москве на Рождественских чтениях-2024, на семейной секции. Здесь, в предисловии, будут озвучены некие концептуальные идеи, которые легли в основу формирования блока материалов для родственников зависимого человека. Поэтому в тексте упоминаются различные ответы, которые были даны живым людям на их вопросы.
На создание этой части автора также вдохновила история одной семьи, которую можно найти в трёх частях ответа «Жене деспотичного зависимого мужа» (ссылки см. выше в разделе «Основная мысль материалов о т. н. созависимых родственниках»). Речь шла о тяжёлой ситуации: муж употреблял кокаин, очень издевательски вёл себя по отношению к супруге. Когда она пыталась обсудить этот вопрос с разными людьми, она слышала по большей части указания на развод. Для неё были подготовлены три части указанного ответа, и через некоторое время случилось то, что иначе как чудом не назовёшь. На один из церковных праздников муж сказал, что он делает ей подарок: что ради любви к ней он прекращает употребление. Через некоторое время семья приняла решение отблагодарить Бога за сохранение брака. Супруги занялись благотворительностью в широких объёмах, но даже не в том ключе, чтобы просто переводить деньги на какие-то счета, а деятельно участвовать, сопереживать и вникать в те случаи, в которых они будут помогать.
Почему важно приводить конкретные примеры?Во введении также хотелось бы ответить на вопрос, почему важно приводить конкретные примеры и случаи из реальной жизни? Патриарх Сергий (Страгородский) в работе «Православное учение о спасении» высказывал мысль, что любую концепцию – он имел в виду богословские концепции, но здесь можно упомянуть и психологические, и концепции любого другого плана – необходимо сопоставлять с примерами. Неспособность автора привести примеры к излагаемой им концепции – сигнал того, что, возможно, его концепция надумана. И, соответственно, когда мы размышляем о явлении, которое называется «зависимость», желательно сопоставить его с уже нам известными культурными феноменами. Проблема алкоголизма, наркомании и прочих зависимостей существует давно, соответственно, культура должна была выработать какие-то механизмы по адаптации людей к этим проблемам или какие-то механизмы решения этих вопросов. И, соответственно, даже если какая-то концепция появилась буквально несколько десятков лет назад, всё равно уже должны существовать какие-то примеры, её иллюстрирующие. Концепция же созависимости, которая появилась несколько десятков лет назад, до сих пор не подтверждается адекватными примерами. Как правило, все такие примеры касаются людей, которые уже состоят в разводе.
Принцип мозга: если долго не принимать личностные решения, способность принимать решения атрофируется. Первый пример: узники концлагерей
Первый пример – это те, кого в концентрационных лагерях называли «стариками». На тему концентрационных лагерей существует огромное количество как научной литературы, так и мемуаристики. Здесь можно вкратце сказать, что если у человека в экстремальных условиях нет личной деятельности, то происходит угасание личности. Под личной деятельностью имеются в виду те решения, которые человек принимает как личность. Если человек решает что-то купить, то здесь ещё сложно угадать личное решение: возможно, человек лишь пытается соответствовать каким-то социальным трендам. Но когда у человека остаётся порция еды, которая мала даже для него, и он принимает личное решение с внутренней борьбой разделить кусок хлеба с другим, то здесь мы уже видим проявленную личность.
Бруно Беттельхейм в своей книге «Просвещённое сердце» справедливо указывал, что если человек более или менее длительное время не принимает личные решения, то способность принимать такие решения атрофируется. В мозге действует принцип: «не использовать – значит потерять»[23].
Применительно к темам жизненного кризиса и зависимого поведения этот принцип был описан в части 1.3 теста «Доминанта жизни и самоубийство»{62}. Помимо прочего, в тексте разбилась история Джека Лондона, который своё вхождение в алкогольную тематику и родившиеся на фоне этого вхождения суицидальные тенденции описал в своей книге «Джон – ячменное зерно» (таким именем называли виски).
См. главы «Эгоистическое обособление и скука», «Алкогольная деградация и закупоренность в собственном вид́ении мира».{62}
Бруно Беттельхейм описывал ситуацию, при которой вокруг узников создавалась среда, которая особым образом давила на них. Потому что каждого вручную расстрелять тяжело, поэтому создавались условия, при которых люди умирали от апатии сами. Если угасало личное делание, то человек переключался на внешний регламент. Его начинали интересовать только вопросы еды, он становился недееспособным.
Подробнее о процессе вхождения в регрессию и о способах сопротивления регрессии см. в тексте «Интеллектуальная деятельность как стратегия выживания в условиях тотального давления».{63}
Бруно Беттельхейм описывал явление, которое можно сопоставить с тем, что называют созависимостью. Один из эсэсовцев, издеваясь над заключённым, сказал ему мыть ботинки. Дело в том, что если некачественную кожаную обувь, не имеющую подкладки, мыть водой, то, когда кожа будет высыхать, она станет твёрдой и начнёт натирать ноги в кровь. Заключённый носил потом ботинки и старательно продолжал их мыть, хотя другие заключённые справедливо замечали ему, что мыть ботинки повторно не обязательно, что это был именно акт издевательства. Вряд ли правильно принимать такую ориентацию заключённого на личность эсэсовца как любовь. О любви здесь речь не идёт.
Второй пример: «Кунг-фу Панда»
Другой пример, заимствованный из массовой культуры, – полнометражный мультфильм «Кунг-фу Панда». Современный концепт созависимости назвал бы мастера, возможно, созависимым. Но мы понимаем, сопоставляя ситуацию мастера с культурным феноменом и называя вещи своими именами, что там речь шла об ослеплённости гордостью. Мастер Шифу воспитывал Тай Лунга, сделал его сильнейшим бойцом. Но со временем Тай Лунг потерял все опорные точки и стал нести террор, хаос и разрушение. В кульминационной части мультфильма Тай Лунг избивает своего мастера, подобно ребёнку, который хочет как-то эпатировать и заставить родителей гордиться им. И он говорит, что делал всё, чтобы мастер им гордился. Он спрашивает мастера, которого он избивает, гордится ли мастер им. И Шифу говорит: «Я тобой гордился с самой первой секунды, и эта гордость меня ослепила. Я слишком сильно тебя любил и не увидел, во что ты превращаешься, во что я тебя превращаю». То есть речь идёт именно о слепоте и попустительстве. И здесь надо просто правильно назвать вещи своими именами, а не включать всё в концепцию созависимости. Потому что если включать все такие культурные феномены в одну концепцию, то концепция получается размытой. Кто-то будет её понимать как состояние, кто-то как комплекс поведенческих искажений и так далее.
Третий пример: Катерина Ивановна и Митя Карамазов; госпожа Красоткина
Ещё один пример – две женщины, описанные Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Катерина Ивановна – её образ полностью укладывается в современную концепцию созависимости. Героиня считала, что она должна превратиться в инструмент, в машину для счастья Мити Карамазова. При том она считала, что должна стать для Мити богом, которому он будет молиться.
Екатерина Ивановна говорит Алёше Карамазову: «В этих делах, Алексей Фёдорович, в этих делах теперь главное – честь и долг, и не знаю, что ещё, но нечто высшее, даже, может быть, высшее самого долга. Мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство, и оно непреодолимо влечёт меня. Всё, впрочем, в двух словах, я уже решилась: если даже он и женится на той… твари, – начала она торжественно, – которой я никогда, никогда простить не могу, то я всё-таки не оставлю его! От этих пор я уже никогда, никогда не оставлю его! – произнесла она с каким-то надрывом какого-то бледного вымученного восторга. – То есть не то чтоб я таскалась за ним, попадалась ему поминутно на глаза, мучила его – о нет, я уеду в другой город, куда хотите, но я всю жизнь, всю жизнь мою буду следить за ним не уставая. Когда же он станет с тою несчастен, а это непременно и сейчас же будет, то пусть придёт ко мне, и он встретит друга, сестру… Только сестру, конечно, и это навеки так, но он убедится, наконец, что эта сестра действительно сестра его, любящая и всю жизнь ему пожертвовавшая. Я добьюсь того, я настою на том, что наконец он узнает меня и будет передавать мне всё, не стыдясь! – воскликнула она как бы в исступлении. – Я буду богом его, которому он будет молиться, – и это по меньшей мере он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла чрез него вчера. И пусть же он видит во всю жизнь свою, что я всю жизнь мою буду верна ему и моему данному ему раз слову несмотря на то, что он был неверен и изменил. Я буду… Я обращусь лишь в средство для его счастия (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастия, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот всё моё решение! Иван Фёдорович в высшей степени одобряет меня»[24].
Она говорила, что Митя должен забыть в ней женщину, что она хочет его «спасти навеки»: «Давно знаю, и знаю наверно. Я в Москве телеграммой спрашивала и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал, но я молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были и ещё нужны деньги… Я поставила во всём этом одну только цель: чтоб он знал, к кому воротиться и кто его самый верный друг. Нет, он не хочет верить, что я ему самый верный друг, не захотел узнать меня, он смотрит на меня только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота: как бы сделать, чтоб он не постыдился предо мной этой растраты трёх тысяч? То есть пусть стыдится и всех и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же всё, не стыдясь. Зачем же не знает до сих пор, сколько я могу для него вынести? Зачем, зачем не знает меня, как он смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня как свою невесту! И вот он боится предо мной за честь свою! Ведь вам же, Алексей Фёдорович, он не побоялся открыться? Отчего я до сих пор не заслужила того же?»[25]. Алёша же сказал ей: «Дмитрия надрывом любите… внеправду любите… потому что уверили себя так…». Сам Митя вот что сказал о ней: «Она свою добродетель любит, а не меня».
Сам Митя Карамазов говорил про неё, что она – «инфернальная душа и великого гнева женщина». О чём идёт речь? Если человек постоянно гневается, значит, он одинок. А раз он одинок, у него затруднён приток жизненных содержаний, с которыми человек строит свою личность, с помощью которых осуществляется культурное возрастание.
В работе «Мировоззренческий сдвиг – детонатор наркотического бума и распада общества» было показано, что человек, выпавший из культуры, может осмыслить только текущее мгновение, то есть сиюминутное переживание.
См., к примеру, часть 1-ю, главу «В условиях отсутствия ориентиров человек выбирает "сиюминутное"».{64}
И примечательно, что Алёша Карамазов сказал, что Митя Катерине Ивановне таким и нужен, чтобы «созерцать беспрерывно свой подвиг верности»[26]. То есть хоть Достоевский и не расшифровал здесь всё до конца, но можно предположить, что измены Мити, что его какие-то реплики, обижающие Катерину Ивановну, становились для неё содержанием жизни. У неё не было подруг, с кем она могла бы обсуждать жизнь в её полноте и красоте, но так как рядом был Митя, ей было постоянно о чём думать, о чём переживать, ну и в каком-то смысле даже жаловаться.
Вторая женщина – госпожа Красоткина. Достоевский описывает мальчика Колю Красоткина, который был дерзок не по годам. Глава, в которой описывается Коля, так и называется – «Коля Красоткин». Коля в принципе демонстрирует какие-то признаки девиантного поведения, насколько они могли существовать в том социуме, который был описан Достоевским. Потому что там какие-то нормы морали всё-таки были, поэтому человек в девиантном поведении всё-таки не переходил через определённые грани. Итак, госпожа Красоткина полностью переключилась на своего сына, и даже когда ей один учитель сделал предложение, она отказалась, посчитав, что она тем самым предаст своего сына. Хотя, если бы она спросила сына, то, возможно, он маму бы поддержал, потому что мальчику всё-таки было бы как-то комфортнее существовать в полной семье, рядом с отцом. И по сути, вот эта её некая мягкотелость привела к тому, что мальчик был вынужден уходить в девиантное поведение, чтобы доказать другим мальчишкам, что он не маменькин сынок.
Достоевский пишет: «Живёт она честно и робко, характера нежного, но довольно весёлого. Осталась она после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и проч., и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их жёнами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было чрез неё над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, «ужасно сильный», как пронеслась и скоро утвердилась молва о нём в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьёт самого учителя Дарданелова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздёрнув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которою уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако, он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать «экстрафеферу», шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчинённые, действуя на неё почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик её «мало любит». Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней «бесчувствен», и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. …Дарданелов, человек холостой и нестарый, был страстно и уже многолетне влюблён в госпожу Красоткину и уже раз, назад тому с год, почтительнейше и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку; но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. …После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Фёдоровна (вдова Красоткина) узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемежками несколько дней, что испуганный уже серьёзно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, причём «мужественный» Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от «чувств», и мать и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали сотрясаясь»[27].