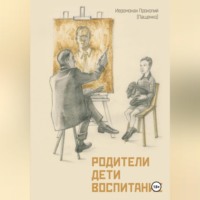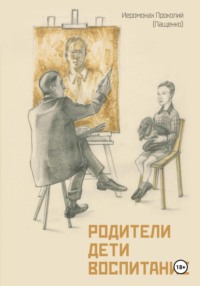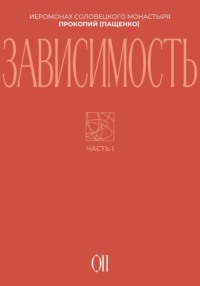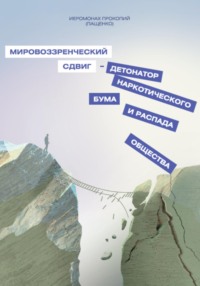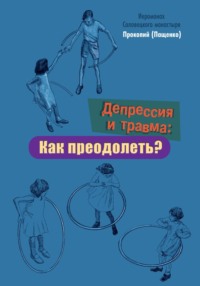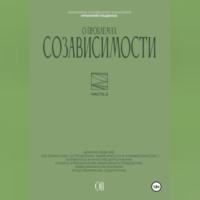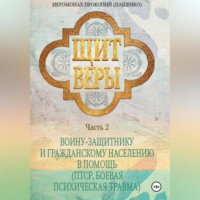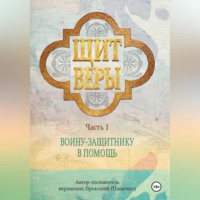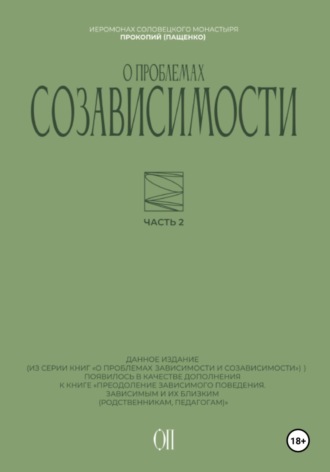
Полная версия
О проблемах созависимости
Например, есть мнение, что созависимые не могут выражать чувства, что они не способны просить о помощи. Они не понимают, что хотят, ничего не делают для себя, у них нет высших интересов[8]. Это всё существует, но честно спросим себя, почему всё это приписывается созависимости именно? Что если такой стиль поведения является следствием депривации систем воспитания и образования?
Чтобы человек мог выражать свои чувства, у него должен быть сформирован минимальный словарный запас. А если он выпал из культурного контекста, если он мало читал, если мало обсуждал с другими какие-то значимые вопросы (а такие обсуждения формируют культуру мышления), то ему бывает трудно формулировать свои мысли.
Что если вопрос заключается отчасти и в том, что в системах образования и воспитания имеются пробелы? Вследствие чего люди подходят к черте совершеннолетия без базовых навыков, которые, по идее, должны обеспечить им способность критически мыслить и хоть как-то понимать действительность. Так, некоторые авторы отмечают, что «рассматривая семью в изолированности от других социальных влияний, системные теоретики могут не видеть, как культурные силы влияют на типичную «дисфункциональную» семью, с её чрезмерно заботливой матерью и безразличным отцом»[9].
Иные авторы сомневаются, что весь комплекс проблем, имеющихся у человека, названного созависимым, можно объяснить самой созависимостью. Так, Хаакен (1990) пишет, что описание созависимости как недуга сопровождается игнорированием реальности. Игнорированием того, что описываемое поведение формируется в социальном контексте.
Хотя некоторые клиницисты используют термин «созависимость» для охвата широкого спектра психопатологических состояний, он чаще всего относится к идентичности, основанной на заботе и ответственности за других.
Психотерапевты Джо-Энн Крестан и Клаудия Бепко (1990) сомневаются в целесообразности использования термина для описания тех случаев, когда женщины пытаются создать «нормальные» семейные сценарии. «Почему это социализированное поведение нужно называть созависимостью? Почему нужно использовать язык болезни для поведения, которое всегда считалось нормальным?»
По мнению Дж. Вебстера (1990), ситуация, при которой проблема объявляется следствием внутренней патологии, а не следствием внешних процессов, затемняет понимание проблемы. Такое затемнение позволяет людям избегать необходимых социальных изменений. Если поведение жертв насилия описывается как проблема, то уменьшается тенденция возлагать ответственность на насильников и на общество.
Можно принять во внимание и точку зрения Патрис Волтерс, заявившей, что сосредоточение на созависимости как на личной характеристике отвлекает от политических, социальных и экономических реалий. Если проблемы приписываются человеку и семье, то может происходить избегание столкновения с мыслью о необходимости истинных системных изменений[10].
В отношении термина возникает и ещё некоторая сложность. Она заключается в том, что в современном дискурсе термин наделяется коннотацией, необыкновенно расширяющей зону охвата. И в эту зону попадают – почти все.
Кто? Люди, в окружении которых хотя и нет алкогольных или нарко-аддиктов, но которые воспитывались в семьях, в которых родители были врачами или военнослужащими. Люди, из родителей которых кто-то много работал или играл, люди из дисфункциональных или неполных семей и прочее и прочее.
Иными словами, складывается такое ощущение, что термином «созависимость» маскируются последствия культурной катастрофы, факт отпадения огромного числа людей от возможности приобщения к здоровому опыту жизни. Заявляется, что 97–98 % людей – созависимы, то есть – страдают от действий других. Что если речь идёт о болезни общества? Что если речь идёт о том, что соотносится с выражением «молекулярная гражданская война»?
Это выражение указывает на бессмысленное насилие, реализуемое всеми в отношении всех, на всех уровнях «от семьи и школы до верхушки государства». Это насилие не организовано какой-либо партией, оно не преследует какие-то цели. И потому его невозможно успокоить, удовлетворить какие-либо из его требований, ведь эти требования никто не выдвигает[11]. Преодоление «молекулярной гражданской войны» – в приобщении к конструктивному мировоззрению.
Феномен «молекулярной гражданской войны» отчасти разбирался в книге автора данного текста – «Мировоззренческий сдвиг – детонатор наркотического «бума» и распада общества»{30}. В этой книге показывается, что и неблагополучие социума, на фоне которого развивается неблагополучие семьи, связано с крушением мировоззренческой оси координат. С восстановления картины мира начинается выход из системного, масштабного кризиса.
См., к примеру, в части 5-й главы «Справедливо ли полагать, что главной причиной наркомании является дисфункциональность семьи?», «Справедливо ли полагать, что главной причиной наркомании является неблагополучие социума?»{30}
Дети и инвалидность
В рамках данного текста создаётся контекст, на фоне которого можно было бы осмыслить феномен созависимости. Когда ситуация рассматривается исключительно в рамках концепции созависмости, то человек словно вырезается из всего окружающего пространства и выход перестаёт быть виден.
К примеру, есть мнение, что созависимость формируется и в тех семьях, где, может, и нет людей употребляющих ПАВ, но где есть дети с инвалидностью. Но опыт показывает, что не у всех родителей развивается состояние удручённости после рождения особого ребёнка.
Вот что, например, рассказывает одна мамочка о том, как восприняла рождение ребёнка с диагнозом (её слова отчасти применимы и к тем родителям, дети которых – зависимы). Когда мама впервые вышла гулять с коляской, ей казалось, что весь мир должен смотреть на неё, что это первое и единственное значимое событие в мире. Первые месяцы были кошмарными, но потом мама пришла к пониманию, что перед ней открывается новая жизнь. Вот что она говорит: «Это очень тяжёлая внутренняя работа. Каждый проходит через что-то своё. Я поняла, что у меня есть внутренние ресурсы, что я могу помочь не только своему ребёнку».
Мама быстро поняла, что, если ты хочешь повернуть мир лицом к особым детям, нельзя сделать это, повернув мир только к своему ребёнку. Нельзя построить доступную среду вокруг одного ребёнка, поэтому, если ты делаешь что-то для своего, ты делаешь это для всех. Например, Наталья Белоголовцева[12] хотела сделать занятия горными лыжами для своего ребёнка, а получилось – для всей страны. Мама особого ребёнка говорит, что благодаря ему она научилась больше ценить жизнь: «Я научилась ценить маленькие радости. То, что мы ходим, говорим, умеем читать, можем видеть солнце, выйти на улицу и откусить сэндвич. Можно зайти в воду, почувствовать, как по тебе бежит божья – коровка, как ты лежишь на песке. Ты можешь всё это осознать. Всему-всему, оказывается, можно радоваться. Я очень изменилась, я раньше не была такая. Я радуюсь теперь каждому дню и всем людям, которые хотят нам помогать. С тех пор, как я занялась помощью детям, я чувствую, что стала притягивать добрых людей. Для меня это чудо каждый раз. Я думаю, это происходит благодаря тому, что удалось открыться миру»[13].
То есть мама пришла к следующему выводу. Либо ты меняешься и вокруг тебя создаётся пространство, в котором – всем тепло, и таким образом создаётся среда, в которой и ребёнку хорошо. Либо по-другому история «не работает».
То есть в данном случае под созависимостью понимают комплекс переживаний, основанных на определённых мнениях в отношении «особых людей», а также подавленность, замыкание в себе и прочее и прочее. Одним словом – ступор. И чтобы выйти из этого ступора, нужен определённый взгляд на происходящее. Если человек пойдёт по тому пути, который предлагается концепцией созависимости (люби себя, заботься о себе), то груз переживаний может так и не покинуть плечи. Ведь при таком подходе возникает риск игнорирования тех причин, которыми ступор был вызван к бытию.
Эти ступор, подавленность, желание уйти в скорлупу в данном случае очень напоминают общий ход процесса при ПТСР. Если не фиксироваться на терминах и диагностических критериях, а посмотреть на шокированных родителей с позиции учения о доминанте, то можно сказать, что у них сформирована специфическая доминанта. Доминанта, согласно академику Ухтомскому, во время активации подавляет прочие отделы коры (человек забывает о том, что в мире есть хорошего, например); общий колорит мира, каким человек его видит, определяется текущей доминантой (мир видится серым, угрожающим); импульсы, поступающие в сознание во время активации текущей доминанты, переадресуются к ней (если мама видит другого ребёнка, то вспоминает своего, страдающего, и начинает плакать).
Если на ситуацию посмотреть под таким углом, то становится понятным, что простые рекомендации по отвлечению и развлечению не избавят человека от сформированной травматической доминанты. Необходимо построить новую, согласно выражению Ухтомского, бодрую доминанту, тогда действие травматической затормозится. А высшие смыслы, найденные человеком, помогут перестроить травматическую доминанту, превратить опыт негативный в источник мудрости. Так человек выходит в посттравматический рост.
Механизм формирования травматической доминанты и стратегия её преодоления представлена в тексте «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты», в частности, в частях 2.1–2.3. В тексте опубликован под названием «Депрессия и травма: как преодолеть».{32}
Также материалы о преодолении травматического опыта упоминаются в подборке «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты» – тексты и беседы иеромонаха Прокопия (Пащенко)».{33}
То же, «В контакте».{34}
Поиск смыслов, которые могли бы помочь родителям «особых детей»; является руководящей идеей цикла бесед «Особые дети среди нас».{35}
Здесь можно привести аннотацию к циклу «Особые дети среди нас», чтобы показать, насколько сильно концепция созависимости сужает понимание проблемы. Чтобы человек мог преодолеть ситуацию, понимание проблемы должно быть обогащено конструктивными смыслами.
Из аннотации: «Когда рождается ребёнок с аутизмом, ДЦП и иными формами «особости», это нередко воспринимается как катастрофа мамой (если папа есть, то и – папой). Чтобы выйти на новую ступень развития, на которой возможны счастье как родительское, так и «общечеловеческое», нужны новые смыслы. Во время подготовки и проведения бесед «Особые дети среди нас» эти смыслы активно искались.
В каком-то смысле (это не тавтология) «сложные» дети подводят родителей к необходимости искать новые основания жизни (утраченные некогда или, в принципе, не найденные). От условно здорового ребёнка (нейротипичного, как говорят) ещё можно откупиться: подарками, игрушками, – «на, купи себе что-нибудь, только не отвлекай папу». А от ребёнка с диагнозом ничем не откупишься, ты либо любишь его – и он как-то начинает развиваться, либо ты его не любишь – и он закрывается.
Для родителей и целых семейств (плюс – бабушки, дедушки) ребёнок с диагнозом (как это ни шокирующе звучит) становится иногда солнечным лучом, выводящим из накатанной колеи жизненных моделей и стереотипов. Взрослым кажется, что всё познано, всё распределено по полочкам, «всё схвачено, за всё заплачено». И вот они сталкиваются с ситуацией «полной невозможности» – когда прежние модели не работают и прежние взгляды ничего тебе не объясняют.
И, встав перед необходимостью искать новые смыслы и вырабатывать новые подходы к жизни, некоторые родители действительно становятся «новыми собой». Пройдя через полосу испытаний, как это ни странно звучит в начале пути, они приходят к благодарности, к способности прикоснуться к глубине мира. Может, их ребёнок и пришёл в их дом, чтобы вырвать их из метафизической спячки («Ах, отстаньте вы от меня со своими разговорами о каких-то смыслах, у меня дел – невпроворот, я в отличие от вас деньги, между прочим, зарабатываю, а не болтаю!»).
«Наш ребёнок научил нас жить», – сказал папа мальчика, которому поставили серьёзные диагнозы, рассказывая о своей истории и кивая в сторону супруги, которая стояла рядом. Через 10 лет диагнозы были сняты, все эти годы родители старались помогать своему малышу. «Всего-то понадобилось – 10 лет! – воскликнул папа. – Что такое 10 лет по сравнению с вечностью – ничто», – сказал он и посмотрел на свою молодую красивую супругу, та плакала.
Впрочем, не во всех случаях диагнозы снимаются, и с этим как-то тоже нужно учиться жить. Преодолевать чувство вины, неприязни к ребёнку, желание закрыться от мира, учась радоваться и любить».
См. также ответы:
«Особые дети. Детский аутизм. Муж не может принять, что у ребёнка особенности».{36}
«Особые дети. Детский аутизм. Ч. 2».{37}
Также можно отметить: некоторые люди полагают, что счастье можно получить только для себя. Для них характерно в большей или меньшей степени игнорирование других людей, законов мироздания, всего, что не вписывается в их собственную матрицу.
И только сталкиваясь с крахом своих эгоистических планов, некоторые приходят к пониманию, что есть духовные законы, на основании которых развивается мироздание. Если человек пытается, не переступая через этику, выбраться из кризисного поражения, то у него со временем появляется понимание, что «не всё так просто в этом мире». Он приходит к пониманию, что есть духовные законы. Если ты следуешь им, ты становишься способным пережить счастье, как своё внутреннее состояние.
Компульсивность, тревожность и травматический опыт
Говорят, что созависимые – компульсивны и гипертревожны. Что компульсивность (неуправляемое влечение, например, к гневу) – основная черта созависимых[14]. Но как они пришли к такому состоянию уязвимости перед компульсивными вспышками?
Когда проблемы зависимости и созависимости рассматриваются исключительно с позиции особенностей мозга или внешнего воздействия, то авторы ведут себя так, «как будто, – по выражению Виктора Франкла, – не существует иных детерминант поведения»[15]. Всё замыкается на тему мозга. Забывается, что, согласно учению академика Павлова о высшей нервной деятельности, у человека есть вторая сигнальная система. С её помощью человек может перестроить имеющиеся негативные паттерны поведения и сформированные рефлексы.
Учение академика Павлова упомянуто святителем Лукой (Войно-Ясенецким) в его трактате «Дух, душа, тело».
В своей жизни святитель Лука соединил призвание земное и призвание небесное[16], стал доктором медицины и доктором богословия. Он показывает, что высшие регуляторные функции нельзя свести только к деятельности мозга (с другой стороны, можно отметить, что свт. Лука пытался с позиции науки объяснить феномены эзотерического плана, видел феномены сознания там, где действовали «силы»).
Забвение того, что способствует развитию высших регуляторных функций, может привести к формированию того, что называется компульсивностью. Тема формирования компульсивности рассматривалась как в текстах «Преодоление игрового механизма», так и в беседах одноименного цикла.
Цикл бесед «Преодоление травматического опыта».{41}
Статья «ТРИ СИЛЫ: Цель жизни и развязавшееся стремление к игре (казино, гонки, игра по жизни)».{42}.
Текст «Эротомания, игровой психоз и неконтролируемая приверженность».{43}
О компульсивности. К примеру, вот выдержка из статьи «Три силы»: «Эмоция загорелась, засыпала своими искрами сознание, и человек не может противопоставить этому фейерверку никакого внутреннего ресурса. Такое трагическое положение дел характерно не только для людей, поражённых тягой к казино. Игрок увлечён желанием отыграться, а домохозяйка, например, увлечена желанием поругаться. Страсть гнева владеет ею наподобие того, как игроком владеет тяга к зелёному сукну. Игрок знает, что если не остановится, то столкнётся с крахом жизни, но, чтобы остановиться – сил в себе не находит. И домохозяйка, привыкшая ворчать и ругаться, знает, что такой образ поведения разрушительно влияет на её жизнь. Знает, но ничего не может с собой поделать. Оба они – и игрок, и домохозяйка – находятся в подчинении страсти».
И самое главное состоит в том, что если есть правильный взгляд на человека, то компульсивное поведение может быть выравнено. Если же мы теряем взгляд на человека с высших точек и остаёмся только с концепцией мозг-нейромедиаторы-реакция, то мы сужаем человека, выход просто становится не виден.
Говорят, что созависимые испытывают гнев и ненависть в отношении зависимых родственников. Гнев приобретает качества процесса компульсивного. Вот что в отношении гнева пишет одна женщина, посещавшая группу для созависимых:
«В группе наоборот учат писать гневные письма и выписывать всё, что угодно, не стесняясь в выражениях. Главное не давать это никому читать, просто выпустить пар. После написания гневного письма – его порвать с молитвой: Господи помоги, прости, очисти.
Я так пробовала писать.
Гнева появляется ещё больше. Психолог объяснила, что так и должно быть, т. к. человек годами копит обиды и гнев в себе. И когда начинаешь писать, ты только снимаешь верхний пласт и открываются все былые раны, поэтому требуется несколько лет.
В общем я перестала писать «гневки» ежедневно, испугалась плохого настроения, напряжения и злости. Потом всё улеглось. Сейчас если накатывает злость, ревность, стараюсь все свои мысли написать и порвать, немного легче».
По всей видимости, кураторам группы неизвестен тот факт, что таким образом человек подкрепляет свою доминанту гнева. При таком подходе за несколько лет он успеет превратиться в бубнящего старика/старуху (объяснение см. в разделе 2-м, в главе «О позиции "все травмы – из детства" и о гневе»).
Принцип доминанты применительно к теме преодоления гнева и обиды описан в материалах:
Подборка «Обида, гнев, злость… Прощение – ЛЕКЦИИ, ТЕКСТЫ ИЕРОМОНАХА ПРОКОПИЯ (также – иных авторов)».{44}
В рамках одного текста – «Гнев».{45}
В рамках одного видео – «Управление гневом: как это работает? Сергей Комаров, иеромонах Прокопий (Пащенко)».{46}
Компульсивные реакции входят в состав и ПТСР – посттравматического стрессового расстройства. Это расстройство очень напоминает явление созависимости. Солдат, находившийся в условиях боевых действий и аномальной обстановки, в контексте межличностной жестокости вырабатывает определённый тип реагирования на окружающую действительность. Отчасти опыт людей, прошедших войны (и концентрационные лагеря), сопоставим, если сравнить его с механикой образований травматического опыта в семьях, в которых было насилие и употребление ПАВ со стороны, например, родителей. И в этом смысле можно сказать, что понимание механики процесса позволяет сказать, как человеку выбираться их всего «этого».
В отношении опыта людей, выросших в семьях с жестоким обращением, были подготовлены такие материалы:
Кратко – в ответе «Женщина. Замужней мешает то, что в юности жила с пьющим папой, сформировалась определённая модель поведения».{47}
Принципы, изложенные в ответе, подробнее разбираются в следующих материалах:
В тексте «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты».
Часть 4.3. «Посттравматический рост. Примеры преодоления моделей поведения, сформированных под воздействием травматического опыта. Трудное детство и прощение родителей».{48}
Часть 4.2. «Посттравматический рост и преодоление моделей поведения, сформированных под воздействием травматического опыта».{49}
В ответе «Человеку, считающему (допускающему), что его травмировали родители», в отношении самого человека».{50}
Конфликты. Конфликт. Нападки со стороны нестабильного в психическом отношении человека.{51}
В отношении ПТСР и преодолении опыта, сформированного в условиях аномальных условий, были подготовлены, к примеру, следующие материалы:
Беседы и тексты, объединённые в подборку «Боевые действия. Осмысление. Преодоление тревоги, ПТСР. Чувство вины».{52}
Статья «Преодоление боевой травмы и выход из посттравматического стрессового расстройства: теория, практика, подходы».{53}
В отношении ПТСР, возникающего по разным причинам (в том числе смерть близких), а также в отношении ситуации, при которой человек убеждён, что травмирован родителями, – беседы и одноименные тексты, объединённые в подборку «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты» – тексты и беседы иеромонаха Прокопия (Пащенко)»:
На сайте Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, в разделе «Соловецкий листок».{54}
В соцсети «В контакте».{55}
Все эти материалы объединены одной идеей, которая раскрывается как с позиции нейрофизиологии, так и с позиции православного мировоззрения и многочисленных опытов жизни. Речь идёт о построении ядра личности, культурного человека, второй конструктивной доминаты, которая вступит в конкуренцию с доминантой травматической и перестроит её.
Конечно, когда человек находится в проживании горя, когда в буквальном или переносном смысле у его горла находится нож, он может воскликнуть: «Да избавьте вы меня от этого кошмара! Мне плохо, уберите от меня тех, кто делает мне плохо, и всё! А вы толкуете про культурное и духовное развитие».
Ещё момент – человек, который прошёл курсы созависимых, научился сепарироваться и пр., что он будет дальше делать в жизни?
Да, отсепарировался, скажем, от сына зависимого? Что дальше? А как жить и работать в большом коллективе, где надо как-то сообща договариваться, чтобы выполнить общую задачу? Как жить человеку, которому внушили, что сепарация – это вариант решения ситуации? Да, где-то в исключительных случаях стоит рассмотреть вопрос о прекращении контакта с другим человеком. Но параллельно нужно учиться слушать других людей, иначе тенденция к распаду перевесит прочие мотивы.
А дальше, возможно, он столкнётся с теми последствиями, которые монах Иоанн (Адливанкин) описал в своём видео «Под маской психологии»: «Входящий в тренинги семейный человек выходит оттуда бессемейным. Приходящий из разумного, доброго коллектива, уходит оттуда с какой-то шизофренической идеей, что он имеет право довлеть, доминировать и властвовать. Приходящие от окружения добрыми людьми становятся одинокими»[17].
Надспорный путь
И ещё раз стоит отметить: родственники не призываются здесь к тому, чтобы потакать зависимости подростка. Не призываются и дальше выплачивать его долги и пр.
См., к примеру, ответ «Маме, дочь которой брала кредиты, снимала деньги с карты мамы, скрывает всё и отрицает».{57}
Речь о том, что вообще, в принципе, обеднение культуры приводит к жёсткой схематизации, чёрно-белому мышлению, к уровню, когда встречные проблемы решаются с бинарных позиций «вкл.»/«выкл.». И человек даже не видит, что есть надспорный путь.
Цель текста – поместить явление в контекст культуры, а не воспринимать как нечто, исключительно связанное с историей общения с зависимым человеком. Тогда сам собой надспорный путь начнёт проявляться.
Когда человек начинает своё духовное и культурное развитие, он переходит из позиции объекта («песчинка в жерновах истории») в положение субъекта (см. о субъектности упомянутую выше часть 4.2 текста «Преодоление травматического опыта…»{49}).
В отношении третьего пути, возможно, нелишним будет привести мысли двух зарубежных авторов. Не то чтобы в их советах здесь возникла великая нужда. Скорее их цитирование можно объяснить следующим образом. Упоминалось, что учение о созависимости родилось в недрах протестантской цивилизации, базирующейся на идее контроля над другими (поэтому, видимо, контроль является одной из главных категорий, свойственных для созависимого поведения). И потому было бы интересно привести мысли представителей данной цивилизации, но мыслящих иначе, увидевших тупик.
Цитирование как автора, написавшего предисловие к книге Джорджа Питерсона «12 правил жизни. Противоядие от хаоса»[18], так и самого Дж. Питерсона, не означает, что все их идеи восприняты «на ура!». Мысли этих авторов приводятся в подтверждение той идее, что концепция третьего пути видится актуальной не только автору данного текста.
Итак, в предисловии к книге «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» отмечается, что те, кто полагает всё относительным, «решили обесценить тысячи лет человеческих знаний о том, как приобретать добродетели, отвергнуть их как устаревшие, «нерелевантные» и даже «подавляющие». Они были в этом настолько успешны, что само слово «добродетель» теперь кажется устаревшим, а тот, кто его использует, предстаёт анахронично-назидательным и самодовольным»[19]. И получается, что данным релятивизмом (концепция, которая гласит, что всё – относительно) усугубляется хаос, который и так свойственен жизни.