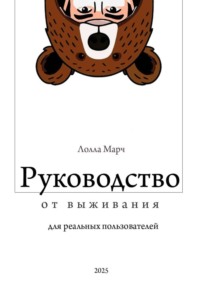Полная версия
Мерак

Лолла Марч
Мерак
Эта книга – всего лишь стечение обстоятельств разных жизней. Они переплелись в персонажах и не имеют никакого отношения к реальным людям. Даже в деталях. Хотя, человеческая жизнь бывает такой, что трудно выдумать изощрённее, чем то, что происходило на самом деле.
Когда-то это звучало разрозненной историей, но оказалось правдой, которую долго не называли.
Кто-то. Вроде меня.
Лолла Марч
„Художник должен начинать каждый
холст с чёрных оттенков, потому что
все вещи в природе тëмные, кроме тех,
которые освещаются светом“.
– Леонардо да Винчи
2001
Солнечные лучи рассеиваются в слоях лазурной воды, блестят, переливаются. Волны перешагивают друг друга, в них свет углубляется. Незримая игра природы. И она продолжается до тех пор, пока одна из капель не заинтересуется – что там, выше, чем, то место, где она сейчас. Такая капля, как правило, искрится сильнее остальной водной толщи. И можно заметить, совершенно случайно, как она, приняв решение, тут же, начинает возноситься.
Сначала, медленно, чуть дрожа, ухватывается за предложенную нить и удлиняется, тянясь к свету. Становится всë прозрачнее, ещё более натянутой. Чувствуя, как миг замирает в прыжке, звенит между. И всё же продолжает полёт ввысь, не зная, насколько высоко можно прыгнуть. Вдруг, это будет ещё выше, чуть ещё выше. Она продолжает тянуться, поднимаясь в небо. Последней из сотен подбираясь к исходу дня.
Тем временем солнце ведёт счёт тем, кто только что сорвался с места; подсчитывает миллиарды крошечных испарений, отмечая каждую, не давая им потеряться в потоке неведомого и желанного. Заставляет прищуриться их, чтобы они не увидели высоты, поддакивает их стремлению отделиться от моря и найти свой путь. Это логично, убеждает оно их. И, конечно, истинно поверив, капилляры наполняются… наполняются желанием до самого переполнения. Усердно, нарастающе, не видя границ дозволенного. И обязательно настаёт момент, когда они уже начинают суетиться, чрезмерно, не по себе.
И тогда солнце быстро теряет к ним интерес.
Взгляд охлаждается, руки опускаются, а ветер будто только этого и ожидая, не мешкая, тут же подхватывает эстафету. По ходу дела, собирая ищущих в ещë одно стадо – более лëгкое, не менее живое, но всë же раздельное. Так им кажется, этим крошечным капиллярам, будто бы из ниоткуда появившихся над землёй. Они собираются сначала в незначительную дымку, в рыхлом танце; а потом в обрамленную солнцем, серую, весомую тучу новых возможностей. Ветер не стесняется подхватить очередную идею и уносит капилляры, всë дальше и дальше.
Действо продолжается.
Порыв, несёт уже сплошное облако над землёй, отдаляясь от голубой мощи.
А море остаётся внизу, не вовлечённое в их движения. Оно не играет в эти игры, не замечает ушедших, не замечает вновь прибывших. Многотонная стихия кочует и не раскрывает своих секретов мироздания. Не смеет смотреть вверх или вниз. Вода просто находится там, где только может.
А крохи, уже привыкшие к высоте, проносятся над горами, изучающе глядя вниз. Удивляются. Перешёптываются. Застывшие волны перевалов манят их пушистым мхом, обещая долгую жизнь среди проталинок и корней. И вот кто-то из капелек, завороженно вглядываясь в неведомые зелёные дали, поверив зову, отсоединяется. В то же время, странным образом, туча только растёт – подхватывая взамен ушедшим, горную мороську. Она тоже не прочь сменить родные края. А другим капиллярам больше по нраву пришлись поля, и они решают осесть здесь, дождём – тем самым, что напоит землю перед зимой. Кто их поймёт: зачем и на что они рассчитывают, покрапывая на вспаханные гряды?
Но выбор сделан, и, не задерживаясь дольше, чем надо, туча, немного похудев – плывёт дальше.
Но даже ветер уже устал. Сколько можно показывать разные красоты? Были уже там и сям. Им всё мало? Думают, там будет лучше, красивее? Почему не проливаются все разом в долинах? Куда теперь нести их? Море они видели в страшных снах, скорее всего, когда замерзали, – рассуждает ветер, неся капилляры по реке к самому широкому руслу. Он всё же хочет, чтобы они ощутили перемену – целиком, без остатка; в полной мере почувствовав прелесть разнообразия этого перехода. Минуя просторы степей и низкие горы, ветер сдвигается, делает резкий поворот – и впереди начинает вырисовываться очередной мерцающий город.
Косой, редкий дождь противно моросит и стелется, так низко, что города почти не видно. Всё покрыто лишь сплошным палевым цветом. И тут, неожиданно для себя, не усидев на месте, одна из капель осветилась отблеском совершения. Эта капелька, та, что была всего лишь одной из множества, уже довольно набухшая, соединившись идеей с сородичами и устремилась вниз.
Если подумать иначе – она просто упала.
Капля падала сквозь слоистый воздух. Пространство раздвигалось под ней медленно, почти неохотно, ускоряясь и налаживая резкость. Постепенно проявилась размытая граница между водой и землёй, чернота вырисовала крыши, огни на дорогах, движение, отражённое на улицах. Потом – отдельные, блестящие окна, в квартирах многоэтажных домов. И хоть неслась она вкривь да вкось, с южными порывами, всё же успела заприметить окно, что светилось тусклым, чуть желтоватым. Обычное, к слову, окно под такой же обычной, скошенной крышей.
Но путь был выбран.
И отважно летев прямо на него. Она начала представлять всевозможные чудеса, которые вот-вот готова была узреть. Сосредотачивалась. Воображала, что именно могло её привлечь, что манило так сильно, что она решилась покинуть родную стихию. И отмечала: она несётся – стремительно, смело, без оглядки. Как начнётся её новая жизнь? Разнообразнее? Впитывала заранее ответы на мучившие вопросы, что всё это время кружили рядом. Время скитаний блекло рядом с надеждой. Перед трепетом движения к чему-то настоящему…
Но случилось так, как она и представить себе не могла.
В этот долгожданный момент… она шлепнулась о стекло.
И ради чего был проделан этот путь? Я мëрзла километры и отрезвляюще старалась быть ниже к земле, чтобы не упустить это окно? Это самое окно? Горы шкрябали еë ради этого? Она держалась за вот эту идею – всерьёз? Покинула тёплое море вот из-за этого?
Тысячный шлепок размазался по стеклу и начал стекать, словно река – та самая, которую капля только, что видела с небес. Лучше бы слилась с той рекой и вернулась в море, – подумала капля.
Женщина за стеклом в этот самый момент начала отворачиваться и тянутся рукой к выключателю на стене. Капля, искажая кухню своей беспомощностью, увидела лицо женщины, мельком, ровно на время пути от середины стекла. Скорее только её профиль и прозрачность глаз. И, зацепившись за тягучую мысль, капля, вдруг всё поняла.
Женщина выключила свет на кухне и пропала в глубине квартиры. А капля стекла до рамы. Завершив свое путешествие, так просто, казалось бы, без интригующей развязки.
Дождь продолжал неслышно накрапывать.
Выключатели на стенах хлопали с той периодичностью, с какой человек обычно собирается выйти из дома. Сначала погас свет на кухне, потом – в большой комнате рядом. Осталась только маленькая комната, на которой держалась сейчас вся квартира, с другой стороны коридора. Она соединяла эти две комнаты, и напротив дверь в ванную комнату. Пару раз свет вспыхнул и в ванной. Теперь, разделяя шаги, свет остался только в коридоре – плавно перетекая обратно. С восточной части квартиры на запад.
Женщина уже стояла у порога всматриваясь в уходящий свет к открытой двери своей комнаты. Смутное чувство, что она всё же что-то забыла, не давало ей сдвинуться с места. Женщина приоткрыла сумку, висящую на плече.
– Материя! – напоминающее, но тихо сказала она себе.
Не обнаружив там ткань, она нагнулась к чëрной, плоской сумке. Стоящая на полу, та облокачивалась на её ноги. Молния затрещала, и, заглянув в сердцевину, женщина повторила опять, почти беззвучно: “материя”.
Она дернула за эглеты и шнурки ботинок дерби быстро расползлись в разные стороны. Облокотив сумку о стену, напротив входной двери, разулась и пошла, погружаясь в полутьму, искать белый отрез ткани. Выглаженный прямоугольник, оказалось непринужденно свисал с перекладины мольберта.
Она аккуратно уложила его в сумку.
– Теперь всë.
Вернулась в длинный коридор, выполнив ещё раз приготовления к выходу из квартиры. Но прежде, чем выключить свет, она взглянула на зеркало и прочла надпись на жёлтом квадратике:
“Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире” Мать Тереза
Свет резко погас. С полным выдохом, наперекор самой себе она шагнула через проëм двери, вынося самое ценное, что у неë было. Конечно, на сумке не было написано, что в ней хранится. Круговая молния, как бронебойный поезд сцепляла две еë половинки, но при этом сумка казалась хрупкой. Настроение держателя сумки отражалось в руках и в торжественном закрытии двери. В шагах намного легче обычного, спускающиеся с четвертого этажа. Но голова, или то, что может быть выше этой торжественности, словно не хотели покидать квартиру.
Две чёрные сумки висели на плечах, напротив друг друга, с разной степенью тяжести и важности. Ветровка приподнялась, смявшись в складки, и между чёрных рек образовались неровности, поле спины стало холмистым. Ткань шуршала при каждом шаге, она спускалась спиралью по лестничным проёмам; выглянула из подъезда, прошла вдоль стены, и, свернув за угол дома, растворилась среди капель незначительного дождя. Эхо шагов последовало за ней, вышло на улицу и, помешкав, растаяло в осени.
Светофоры на тёмном фоне горели слишком ярко, свет от них рассеивался крупинками. Обрамляя и без того жëлтые листья не естественным красным, а потом мигающем зеленым цветом. Люди спешили с работы домой или в магазин, а потом обратно домой. По невзрачным взглядам можно было понять, что они прокручивают в голове план действий. Обычный план, как в остальные дни: зайти в магазин, купить рыбки коту, сварить суп или кашу, чтобы на следующей неделе не варить, лечь на диван, а потом после ужина переместиться на кровать.
Женщина протискивалась среди обыденных мыслей, которые смотрели себе под ноги, обходя лужи.
Окна её квартиры выходили прямо на этот перекрёсток. И переходя дорогу, она очень хотела обернуться, без особой причины, но лужи, люди и машины заставляли сосредоточиться на дороге и на цели – доме напротив её дома.
Она шла на работу уже в третий раз за день. В первый – провела занятие с детьми; во второй – принесла дополнительный свет. А теперь несла свою картину.
Шум машин остался позади. В помещении было тихо. Маленькая тёмная комната встретила привычным видом. Первое, что бросалось в глаза: письменный стол, а дальше выставленные в ряд, вдоль стены, стулья. Ближе к середине комнаты, стояли металлические крепления со светом, направленными чëтко на белую ткань, уже закрывающую картину, выглядело это как импровизированный театр. Театр – это громкое название, скорее уличный балаганчик в каморке, чтобы спрятаться от дождя.
Продолговатое окно у самого потолка, что желтело от фонаря, практически сразу было занавешено тёмной тканью. Под ним, располагались небольшие полки и доходили до батареи. Какие-то силуэты вазочек и стопок бумаги прятались в тени. Где-то там в углу ещё скрывался шкаф. Заходя сюда было не ошибиться – это изостудия. И этот незамысловатый антураж придавал светящейся картине ещё больше значимости.
И осмотрев последний раз комнату, так, если бы она только вошла в неë, женщина повернулась к двери. Открыла еë, выйдя в коридор, закрыла за собой; видимо, думая, что все еë приготовления могут улетучиться. И не слышно зашагала по коридору в сторону фойе, приглашая ожидающих на выставку одной картины.
Мольберты сгрудились в углу, а центр комнаты сиял. Когда вошли трое, точнее, три женщины, им показалось, что в такой темноте ничего не удастся разглядеть. Но, продвигаясь дальше, они заметили: в самой глубине, с противоположной стороны – световой овал. Чёткий, направленный, он выделял угол, подготовленный для показа. Полубоком, не отворачиваясь от освещённой сцены, они взглядом нащупали стулья, и сели напротив невиданного и таинственного. Запах сырости, полуподвального помещения стал завершающей деталью, вплёлся в происходящее, окутал их.
Зайдя последней, художница убедилась, что зрительницы затаили дыхание, и плавно вышла на свет. Стоя перед ними, начала что-то говорить.
Но все были заворожены своими мыслями, хорошими или плохими, смутными или их просто увлекло любопытство и потому, никто так и не услышал, что именно она сказала.
Свет чëтко отражал каждую мимическую морщинку на лице художницы, белые волосы светились ореолом. А рука, всё же отдернув через какое-то время ткань, показалось, распалась на кадры.
Выставка одной картины.
Пыль едва заметно закружилась в видимости света, затем была поглощена темнотой, сыростью и молчанием. За стеной изредка проезжали машины, их звук глухо касался стекла, и казался таким далеким, что звучал, как эта пыль, незаметная и незначительная.
Художница отошла в тень.
Пропустив пару стульев от смотрящих, села и краем глаза наблюдала больше за ними, чем за своей лучшей работой. Смиренно ожидая нужного момента, когда восторженные взгляды проникнутся историей, которую она написала, и смогут увидеть отражение своей души в написанном ей, портрете.
2004
В один из дней, не самый погодистый; в день, когда серое море застыло над городом. Художница сидела на кухне и никак не могла вспомнить, кто она. Где-то посередине жизни, покачиваясь на волнах – ни вперёд, ни назад – она застыла. Время стало мимолётным, но не исчезло: оно разложилось по кухонному столу – в виде слов и записок. Некоторые уже были прикреплены магнитами к холодильнику, всунуты в скобы зеркала, подложены под сахарницу, прибиты гвоздиком к дверному проëму.
Только что она выписала новые цитаты, выводя аккуратно буквы. И взглянув на голый тополь, который покачивался в облаках, забыла зачем это делала.
Разноцветные ручки, квадратные стикеры, всё старалось внести хоть какое-то различие в её дни. Но какую именно жизнь они пытались разнообразить? Вся жизнь слилась, расплылась, как акварель на мокрой бумаге – что вода на листе, что дождь за окном. Она с трудом могла отличить одно от другого. Плечо зябко дёрнулось, и рука подтянула край бежевого кардигана, жестом вернув себя обратно – хоть чуть-чуть, и этот момент заметила своё отражение на стекле.
Прозрачное тело, тонкие белые волосы, коротко подстриженные, возможно, слишком коротко. Но это не делало её образ грубее. Телосложение, хоть и немного надломленное, но голову она старательно держала прямо. Короткость, но не изящность. Худая, но не вытянутая. Не высокая, не низкая.
Всегда аккуратно одетая, преимущественно в брюки и невзрачный верх. Сливаясь с интерьером жизни, было не разобраться, была ли она красивой в молодые годы. Хотелось бы в это верить, ведь она точно не была противной. Тусклые голубые глаза и бледная кожа едва выделялись на фоне седых волос, а те словно сливались с потолком. Её силуэт можно было не заметить в каком-то из углов.
И всё же запомнить её можно было по долгим, заунывным разговорам о книгах, в которых она искала ответы на все возможные вопросы.
Её взгляд скользнул по стенам, где угадывались следы – там стикеры бегали по квартире ища нужное место. Периодически падали с последними сухими листьями. Когда часть полоски клея оставалась где-то на поверхности дома, это она решила перевесить розовый квадрат всë же на зеркало. Но там он уже еле держался.
На вид ей было около сорока пяти лет. Она всю жизнь представлялась Асей.
Искала и направляла себя всевозможными способами: молитвами, семинарами, книгами. И поэтому еë квартира была увешана цитатами, это был тот самый мотивирующий способ, который она выбрала – сидеть и смотреть на слова, когда-то сказанные кем-то, надеясь услышать в них продолжение, но оно ускользало. И она вновь обращалась к книгам, выписывала, проговаривала…
У неë есть взрослая дочь, которую она назвала в честь отца – Александра.
Уже месяц Ася не выходила на улицу; но, кто считает, может, прошло и больше, а может и меньше. Холод сковывал тело, заставляя придумывать бесконечные отговорки. Кутаться в свитера и шарфы, словно в броню. Её кошка спала, выбрав самое тëплое место в квартире – на кровати в большой комнате. Из незаметных щелей окон поддувал леденящий воздух, она снова забыла заклеить и утеплить их к зиме. Каши, которые ела, надоели и ей, и кошке, но в эти дни, ей казалось куда более уместным выискивать ободряющие афоризмы в книгах.
Сидя на кухне, Ася ждала дочь, которая должна была зайти после работы с продуктами. Серое небо скользило наискось за окном, а она всё сидела неподвижно, время от времени бросая взгляд на открытую книгу с ручками, зажатыми между страниц; они были маленькими якорями в хаосе мыслей. А стикеры выглядели обещаниями. Ожидавшие своего часа, когда их приклеят на нужное место. Но она всё ещё смотрела на себя в отражении стекла. Ветер посвистывал, слова вновь повторялись: Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы часто не замечаем её, уставившись взглядом в закрытую дверь. И правда, так оно и есть.
Иногда, в такие сливающиеся дни к ней приходили подруги. Разделяя еë однообразные недели. Внешне подруги были совсем другими, но, как и она, несли свои истории, которые можно было прочесть в незначительных жестах. Все они были одиноки. Но ни одна не считала, что может быть хоть чем-то похожа на другую. Они разговаривали, слушали, иногда улыбались; мягко, отвлеченно и неспешно, будто боясь тронуть что-то важное, невидимое. Между ними была тонкая нить, не озвученная и почти незаметная, словно то, что связывало, не позволяло приблизиться слишком близко. Никто не решался дернуть, чтобы расплести свой клубок, видя в нём лишь чужой узор.
Подруги приходили к ней в гости, а не она к ним; они все жили в разных концах района, и их пути сходились посередине, у Аси дома. Они работали вместе, напротив её дома, и им было проще заглянуть к ней. Так уж сложилось. Если бы не работа, навещать Асю было бы неудобно: до её дома добираться нужно либо с пересадками, либо долго идти пешком. Собственно, и на работу они добирались также, с теми же пересадками. Поэтому заглянуть к Асе после, было проще, чем приехать просто так. Всё складывалось удобно, если не вдаваться в подробности.
Помимо Асиной хандры они иногда встречались и на выставках, и в театрах, собираясь в тот же самый кружок, что и на кухне.
– …И каково моё было удивление, когда напротив моего дома открыли детский клуб. Бог или кто бы то ни было всегда присматривал за мной. Вот, буквально, ночью тогда, лежу, думаю, деньги заканчиваются, не хорошо на мамину пенсию жить. Портреты не заказывались в этот период, и дочь… она хоть самостоятельная, но, всё же. И вот лежу, думаю, как я могла бы пригодиться, что я могу дать миру, кроме картин. Конечно, знаю, на ночь глядя никогда не бывает хороших мыслей. Но не думать не получалось до самого рассвета. Я всё же уснула, но потом настроение весь день было несносное, уже ближе к вечеру, выхожу на улицу в этот самый день, в магазин; решаю пройтись по аллее за домом, а на той стороне дороги, на углу дома – дверь на распашку. Сколько живу, никогда это помещение и не было использовано. Моë удивление только подкреплялось. Оттуда выходит мужчина в синем комбинезоне, чуть дальше, чем надо и разворачивается со стремянной. Уверенно залезает, как сейчас вижу, в замедленной съёмке. Шаг в шаг со мной и примеряет табличку сверху двери: "клуб детского творчества "Родник"". Забывая, свернуть вниз на аллею, я иду прямо к двери. Хочу спросить у него, можно ли зайти, но он не замечает меня, и я вхожу.
Пыль и сырость затхлого помещения смешались в темноте узкого коридора. Одна дверь справа, закрытая, ещё одна, напротив и поворот налево к свету. Это моё первое впечатление, запасной выход, который стал входом. Ты тоже им всегда пользуешься? Твой кабинет был за сценой, там же ещё один вход? Ах, да, ты же сидишь теперь в моей комнате. Вспомнила, по средам? Странно, как жизнь собрала маленьких женщин, я считаю нормальным такой рост, но всё же это интересно. Директор наш ещё миниатюрнее нас, – отступает Ася, будто собирая пазл, – Я тогда почти ничего не сказала. Не подготовилась, не знала, зачем пришла. Просто спросила у женщины за столом: что здесь будет? Сказала, что я художник. А она, разбирая бумаги, ответила: приходите в понедельник с трудовой, обсудим расписание. И всё. Я вышла буквально через пару минут и у меня уже была работа.
– Бывает же такое, – улыбаясь и кивая отвечает ей подруга.
Они отхлебывают чай, и продолжают разговор.
– Я тоже пришла на авось, но поговорив, Елена Сергеевна предложила вести кружок "Мягкая игрушка", я и согласилась, на то что и вязание туда можно будет включить. Повезло нам.
– А сегодня ночью, – продолжила Ася, – при написании картины я вдруг осознала, что мой мизинец подходит только для этого занятия. Он ровно такого размера, чтобы я могла упираться им в холст. Не это ли и есть то самое, по которому можно определить предназначение жизни… Почему только сейчас я обратила на это внимание, – спокойно, даже через чур, без воодушевления, прозвучал голос, который не требовал ответа. И не поднимая руки с колен, она посмотрела на мизинец, немного приподняв его, и ответ на мучающие ночами вопрос, был перед глазами. Она даже немного улыбнулась, – А у других такого мизинца нет.
– Да, бывает же такое! – улыбаясь и кивая, отвечает ей уже другая подруга, – И вправду, мой мизинец куда длиннее.
Асе пришлось сравнить пальцы с подругами, а потом показать, как она держит кисть и упирается в холст.
– А что за картина?
– Ничего не вышло.
Ободряющие, долгие речи и вправду производили впечатление на подруг. Но временами, после них наступала тишина. В воздухе зависал вопрос: что тогда не так? Ведь, по Асиным словам всё складывалось удачно. И всё же, слушая, даже при этих рассказах о странных, но счастливых совпадениях, почему-то хотелось приободрить еë. Картины у неё давно уже не писались. А по голосу, тихому, сдержанному, казалось, она была на грани потери сознания.
За окном уже стемнело. Что было ещë не обсуждено в предыдущие встречи, всплывало сейчас.
– … Самое непонятное для меня было мое имя, – вдруг решила поделится Ася, – Слишком непонятное и не подходящие, длинное. Настей я себя не чувствовала. Неуместное рядом со мной. И я каждый раз оборачивалась с удивлением, если кто-то звал меня так. И, наверное, поэтому с детства меня все называли Асей. Это было понятно. Но я всегда, как будто оправдывалась за этот выбор. Объясняя сначала своим учителям в школе, что – я просто Ася. Даже Ася Александровна звучит куда естественнее. И вот, когда я впервые вошла в кабинет изостудии, увидела семерых детей у мольбертов, у меня в голове опять возник этот самый вопрос: кем быть? Анастасией Александровной? Или просто Асей? Но тут же вспомнились слова директора, она сказала всего пару дней назад, что так нельзя, просто по имени. И я произнесла: “Здравствуйте. Я Ася Александровна. Мы с вами будем изучать композицию и писать то, что видим вокруг, чтобы быстрее познакомиться, предлагаю начать писать. Да, обратите внимание – писать. Художники, пишут свои картины. А мы теперь с вами настоящие художники. Посмотрите на натюрморт, который я вам сегодня приготовила. Синий куб. Достаем гуашь и лист бумаги. Я помогу вам закрепить их с помощью кнопки на мольберте”. И говоря все это, я ходила между рядами деревянных мольбертов. Установленных так, чтобы каждому юному художнику была видна композиция из куба, который лежал на белой ткани. Я так нервничала в первый день работы, устанавливала мольберты только час. Старалась говорить спокойно, но, наверное, говорила еле слышно, подозревала, что никто на второе занятие не придет.
А вот сегодня, по правде сказать, был ужасный случай, дети пишут, а тут врывается мама Ксюши, самой маленькой и говорит с разбегу: “У меня отец заслуженный художник России, мама тоже художник, я пишу, вся семья художники, а мой ребенок каракули какие-то у вас рисует. Почему вы не учите еë? Чем вы вообще тут занимаетесь?”, – и вырвав с мольберта рисунок, потрясла ещë немного перед собой… лист был мокрый от краски, она уже хотела сдернуть с табурета и дочку. Я напоминаю, что уже говорила: ей всего четыре года, она ещё слишком мала для занятий. А она отвечает: “Я в три рисовала и ничего, не умеете писать, так ещё других учите. Не будем больше к вам ходить”. Так и было. Я до сих пор в непонимание происходящего, наверное, я что-то должна была ответить ей. Пришлось ещë детей переключать с этой ужасной сцены, так неловко было.