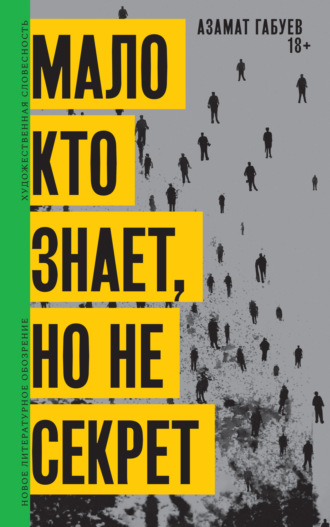
Полная версия
Мало кто знает, но не секрет
• статьей 6.11 КоАП РФ. Занятие проституцией;
• статьей 6.24 КоАП РФ. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;
• статьей 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство;
• статьей 20.2 КоАП РФ. Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка;
• статьей 20.21 КоАП РФ. Появление в общественных местах в состоянии опьянения —
влечет наложение административного штрафа в размере до 50 000 рублей.
2. Субъектами административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, являются:
• муж, если названное в части 1 настоящей статьи лицо женского пола состоит в браке;
• отец, если названное в части 1 настоящей статьи лицо женского пола не состоит в браке;
• брат при отсутствии мужа и отца;
• старший из ближайших родственников мужского пола при отсутствии всех вышеназванных лиц».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Пояснительная записка
Мы живем в национальной республике, где большую роль играют традиции и обычаи осетинского народа. Среди этих традиций – особое положение женщины как хранительницы очага.
Современные реалии и агрессивная западная пропаганда размывают вековые устои. Среди женщин все больше распространяются пьянство, курение, половая невоздержанность, склонность к антиобщественному поведению. Это разрушает институт семьи. Отдаленные (впрочем, не очень) последствия этого – деградация и вымирание народа.
Между тем, как известно, женщина не будет нарушать нравственность и порядок, если находящиеся рядом мужчины правильно ее воспитывают. «Сылгоймаг у рæдийаг (женщине свойственно ошибаться)» – гласит осетинская поговорка. Издревле ответственными за поведение женщин были мужчины. За замужнюю отвечал муж, за незамужнюю – отец, брат и так далее. Такая система контроля обеспечивала общественную стабильность.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность мужчин за аморальное и противоправное поведение жен или родственниц дополнительно к ответственности самих нарушительниц, установленной КоАП РФ.
Реализация законопроекта не требует бюджетного финансирования.
Депутаты
Батразов Р. Х.
Цахарадонов В. Р.
***К нам прилетел сам Коромыслов. Это мне Вадим сказал. Мол, он всего на пару дней и сегодня выступает с закрытой лекцией в СОГУ.
Вадим самовыдвиженец, как и я. Но наши пути в парламент были разными. Я с самого начала строил карьеру на госслужбе – зарекомендовал себя в Министерстве по делам молодежи, а потом избрался депутатом от Затеречного района Владикавказа. А Вадим стал чемпионом мира по армрестлингу, открыл сеть аптек здорового питания и выдвинулся от Правобережного района. Мы оба входим в комитет по национальной политике, где я председатель. Мы сдружились, хотя он сильно младше меня. Ему двадцать восемь, а мне тридцать шесть. Он не женат, а у меня двое детей. Вадим очень думающий. Не зря он читает таких авторов, как Коромыслов.
Про лекцию Вадим узнал от своей тети, которая на истфаке завкафедрой, и попросил включить нас в список приглашенных. Я, с одной стороны, был рад сходить, с другой – расстроился, что не я все первый узнал и организовал. Поэтому сказал:
– Ну, это не обязательно было. С нашими корочками и так бы пропустили.
– Может быть, – улыбнулся Вадим. – Но зачем еще нужна тетя на истфаке, если ей не звонить по таким вопросам?
Я молча согласился.
Это было утром. А к двум часам мы, не пообедав, двинули в СОГУ на моей машине. По пути Вадим позвонил тете и уточнил, в какой аудитории лекция. Оказалось, в главном здании, где журфак, филфак и ректорат. Мы оставили машину на библиотеке.
Пока мы шли, я несколько раз оборачивался на студенток. Все-таки у нас самые красивые девушки. Осетинки всегда были красивые на лицо: пухлые губы, большие глаза; а поколение нынешних студенток еще и длинноногое. Видимо, наш генотип наконец очистился от монгольских примесей.
На проходной мы показали депутатские корочки, и нас без вопросов пропустили. Я подошел к группе из трех девушек, пышущих молодостью и красотой.
– Девушки, вы не знаете, где тут сто восемнадцатая аудитория?
– Как войдете, прямо, потом направо и сразу увидите, – ответила рыжая с голубыми глазами.
Ее подружки примолкли и смотрели внимательно на нас, наши костюмы и шелковые хæдоны. Видимо, гадали, кто мы: для студентов слишком взрослые, а для преподов слишком нарядные.
Я поблагодарил за указанную дорогу и спросил, с какого они факультета.
– Журфак, – ответила смуглая брюнетка, ее серое трикотажное платье обтягивало пышные формы.
Третья девушка, модельного роста блондинка, шепнула что-то рыжей на ухо, и обе хихикнули.
– Ну и как там сейчас на журфаке?
– Нормально, – сказала брюнетка, – только читать много надо.
– Зачем таким красивым девушкам много читать? Смотрите не перестарайтесь, а то замуж не выйдете.
– А мы и не пере… перстаро… в общем не слишком того, – сказала высокая, а рыжая двинула ее сумкой.
– А вы сами кто? – вмешалась фигуристая брюнетка.
– Мы депутаты.
– Думы?
– Пока нет. Мы из парламента республики. Если среди вас кто-то живет в Затеречном, то могли и голосовать за меня.
– Я с Затеречного, – сказала рыжая. – Но мне еще не было восемнадцать на последние выборы.
– Тогда простительно.
Вадим толкнул меня в спину.
– Ладно, нам пора, – сказал я.
– До свидания! – попрощались девушки.
Мы прошли через стеклянную дверь.
– Что это сейчас было, Реваз?
– Ничего. Молодость вспомнил. Ты бы которую взял?
– В смысле взял?
– Ох, ладно. Забудь.
Перед аудиторией женщина лет пятидесяти в желтом брючном костюме проверяла людей по списку.
– Так, а вы, молодые люди, кто?
– Мы от Елены Зелимхановны.
– Вы ее племянник, который депутат, да? Можете садиться везде, кроме первых двух рядов. А вы тоже из парламента?
Я кивнул.
– Замечательно, проходите.
В аудитории были известные на всю Осетию люди: режиссер Тимур Келехсаев, лингвист Лариса Темирканова, историк Олег Джиоты. Народу в целом было много, но не так, чтобы не хватало мест. Мы сели на четвертом ряду ближе к выходу. На кафедре стояли микрофон и бутылка воды «Урсхох».
– Посмотри, – Вадим кивнул на передний ряд. – Маир здесь.
– Не заметил. Пойду поздороваюсь.
– Ты с ним знаком?
– Само собой. А ты нет? Сейчас познакомлю.
Вадим встал вместе со мной. Мое знакомство с Маиром явно впечатлило его. Это вам не тетя с истфака. Маир Далармов – один из главных идеологов возрождения в Осетии древней арийской духовности. Он постоянно выступает на Ир ТВ как эксперт по этой теме, а его книги стоят в местных магазинах на самых видных местах.
– Маир, дæ бон хорз[11].
– О, Реваз. Молодец, что пришел.
Мы пожали руки.
– Это Вадим. Мой коллега.
Вадим тоже пожал руку Маиру:
– Я как раз читаю «Аланскую космогонию».
– Рад, что ее кто-то читает.
– Не скромничай, Маир. Тебе не идет. Скажи лучше, кто пригласил Коромыслова.
– Официально СОГУ, но я тоже руку приложил. Вот смотрите, – Маир взял со стула стэйтоновский пакет, вытащил оттуда книгу Коромыслова «Восход Гипербореи» и раскрыл в начале. Я прочитал автограф: «Дорогому Маиру, который вносит весомый вклад в наше общее дело, на долгую память от автора».
– Эх! – Вадим хлопнул себя по бедру. – И чего я его книги в бумаге не покупал? Сейчас бы тоже автограф взял.
– А вот и он, – Маир показал книгой в угол сцены. Коромыслов скромно сидел на стуле и пил воду. Я и не заметил, как он появился. – Все, начинается.
Маир сел, и мы сели рядом с ним, потому что там было как раз два свободных места. Женщина в желтом подошла к кафедре, постучала пальцем по микрофону и торжественно начала:
– Рада приветствовать всех, кто пришел на сегодняшнюю встречу. Огромное спасибо ректорату за то, что мы собрались сегодня в стенах университета. И спасибо пиво-безалкогольной компании «Урсхох» за то, что симпозиум Vita Alaniæ, в рамках которого проходит сегодняшняя встреча, стал возможным. Ну а наш лектор, я полагаю, в представлении не нуждается. – Она посмотрела на Коромыслова, он поправил очки. – Алексей Зенонович, не буду отнимать время. Микрофон ваш.
Зрители захлопали. Коромыслов встал за кафедру:
– Уæ бон хорз!
Зрители захлопали еще сильнее.
– Спасибо за теплый прием. Тему лекции я обозначил как «Осетинский ключ к воротам Евразии».
Женщина в желтом села на стул в углу и достала блокнот и ручку. Мы с Вадимом включили диктофоны. Коромыслов говорил:
– Название конференции Vita Alaniæ – Аланская Жизнь, или Жизнь Алании. Это не просто набор латинских слов. Речь идет о жизни Алании как территории и одновременно о жизни в аланском духе. А это уже выходит далеко за пределы современной Осетии и даже исторической Алании. Это грандиозная инициатива по осмыслению корней индоевропейской цивилизации.
Он рассказал, что Освальд Шпенглер в работе «Эпика человека» выделял три протоцивилизации. Первая – Атлантическая. Она связана с интересом к загробной жизни. Вторая – Кушитская. Это очень жизненная, материальная цивилизация. И третья – Туранская – культура воинственных кочевых обществ. В основе евразийской культуры лежит как раз Туранская протоцивилизация. Туран – это код, ключ к европейской, индусской и иранской культурам.
Когда цивилизация, созданная туранами, становится оседлой, она развивается по разным путям. Но кто-то сохраняет исток. И этот исток сохранили осетины. Потому что Туран – это кочевые ираноязычные племена. А раз осетины прямые потомки скифов и сарматов, то мы и есть носители туранского кода.
Этот код обнаружил Жорж Дюмезиль, когда исследовал Нартский эпос. Для Дюмезиля Нартский эпос – основа индоевропейской культуры, которая выражается через идею трехфункциональной организации общества: жречество, военная аристократия и земледельцы. В нартском обществе эта структура представлена тремя родами: Алагата, Ахсартагката и Бората. Ни в каком другом устном фольклоре эта структура так четко не прослежена. Осетины – единственный индоевропейский народ, сохранивший живую связь с древностью.
Государство обычно возникает из двух этносов. Когда кочевые скотоводческие племена приходят туда, где живут оседлые земледельцы, они образуют военную аристократию нового общества. Сармат – это не столько этноним, сколько каста, функция власти.
И тут Коромыслов удивил всех присутствовавших, включая меня и Вадима. Он сказал, что был такой советский археолог Борис Рыбаков, который установил, что славяне являлись аграрной частью скифо-сарматских обществ. Лев Гумилев, в свою очередь, предлагал сарматскую теорию происхождения славянской государственности. Но идеи этих ученых не получили официальной поддержки. Очевидно, они были невыгодны определенным силам. Ну, так прямо Коромыслов не выразился, но дал понять.
– Таким образом, – Коромыслов вздохнул, – для нас, русских, изучение осетинской культуры есть движение к своим корням.
Мы не сразу поняли, что он закончил, и получилась пауза. Первым захлопал Маир, потом Вадим, а потом весь зал. Женщина в желтом поднялась и сказала, что есть нескольку минут на вопросы.
Я думал, что же такое спросить, но не придумал, так подробно Коромыслов все осветил.
Девушка с задних рядов, которую я не разглядел, спросила:
– Означает ли сказанное вами, что известные пороки современной Европы представляют собой отход от скифо-сарматского культурного кода?
– Не совсем так, – пояснил Коромыслов. – Правильнее сказать, что современное состояние Европы есть следствие такого отхода и забвения истоков. Это не совсем одно и то же. Если мы посмотрим на Европу в широком смысле, то чем ближе то или иное общество к истокам, тем меньше в нем поощряется индивидуализм, меньше разрушаются коллективные идентичности, включая этнос и гендер. Негативных явлений больше всего у германцев и англосаксов, чуть меньше у романцев, очень мало у славян и почти нет на Кавказе. Хотя одна страна в Закавказье, не будем показывать пальцем, уверенно движется в сторону, так сказать, светлого европейского будущего.
Встал пожилой мужчина в костюме-тройке:
– Исходя из вашей мысли о том, что сармат – это функция власти в российском государстве, правильно ли будет сказать, что правление Сталина, который, как известно, был осетином, стало возвращением российского государства в историческую колею?
– Спасибо за вопрос. Так и есть. Сталин воссоздал Российскую империю, взяв за основу ту самую скифо-сарматскую трехфункциональную систему общества. Смотрите. Пятилетки и коллективизация – это развитие земледельческой функции. Возрождение патриаршества и учреждение Совинформбюро – это создание жречества. Кроме того, именно при Сталине сформировалась советская военная элита. Неслучайно империя, которую строил Сталин, простиралась от Балтийского до Японского моря. То, что является Евразией по духу, должно занимать Евразию территориально.
Зал снова захлопал, а женщина в желтом подарила Коромыслову цветы. Потом те, у кого были книги, выстроились в очередь за автографами.
Маир повернулся к нам с Вадимом:
– Мы с Алексеем Зеноновичем после автограф-сессии хотим пообедать где-нибудь. Если есть время, присоединяйтесь.
У Вадима прямо уши приподнялись.
– Серьезно?
Я тоже обрадовался такой возможности, но не стал показывать это так открыто. От хороших предложений нужно дважды отказываться и только на третий раз соглашаться. Так делал Сауассæ, когда его в подводное царство приглашали. Поэтому я сказал:
– Как-то, неудобно. Он же нас первый раз видит.
Вадим посмотрел на меня потерянным взглядом, а Маир сказал:
– Не тыхсуй, познакомлю.
– Ну не знаю. Может быть, он вообще не хочет никого видеть после лекции.
– Он очень общительный. Но если у вас государственные дела…
– Нет никаких дел! – ляпнул Вадим.
Я нахмурился на него.
– Дела всегда есть. Но сегодня они могут подождать.
Коромыслов взял свой букет и сел с Маиром на заднее сиденье, а Вадим сел рядом со мной. Я предложил поехать в «Куырой», и все согласились. На мосту Коромыслов посмотрел на «Бэтмена» и спросил, кому это памятник.
– Генералу Плиеву, – ответили мы хором.
– О! Это ведь он предотвратил запуск ракет во время Карибского кризиса?
Мы дружно кивнули.
В «Куырое» было много свободных столов. Мы сели на веранде. Маир сел во главе стола за хистæра[12], а мы с Вадимом по бокам от него. Коромыслов сел рядом со мной. Так-то он старше всех, но он гость и не знает, что делать.
Я сразу решил, что заплачу за всех, поэтому первый заговорил с официанткой, тем более, я ее знал. Я в «Куырое» знаю даже поваров.
– Привет, Дзера. Как дела?
– Все хорошо. – Она улыбнулась так, что ямочки на щеках появились и грудь приподнялась. – Вот, работаю.
– Мы тоже, – сказал я. – Думаю, можно обойтись без меню. – Я оглядел других присутствовавших за столом. Вадим и Маир не возражали. – Алексей Зенонович, доверитесь моему вкусу?
– Раз уж я в гостях, то должен есть что дают.
– Отлично. – Я снова посмотрел на Дзеру, она достала блокнот. – Тогда три пирога нам: цæхæраджын, уæлибæх и картофджын. Шашлык давай бараний – семь штук, овощную нарезку и… что-то еще я хотел заказать. Вспомнил! Дзыкка! Давай нам дзыкка!
– Сколько?
– Один горшок. Это специально для гостя.
Коромыслов приподнял бровь. Он явно заинтересовался дзыккой.
– И еще араку. Большой кувшин. И первым делом принеси вазу, чтобы мы цветы поставили.
Дзера прочитала заказ вслух и, когда я подтвердил, отошла.
Коромыслов поинтересовался, чем мы с Вадимом занимаемся. Мы рассказали, что мы депутаты и какие у нас законопроекты на повестке.
– А как переводится название ресторана?
– Мельница, – сказал я. – Раньше здесь действительно была водяная мельница.
– Вода по-осетински будет «дон», – добавил Вадим.
– Это я знаю, – сказал Коромыслов. – Дон, Днепр, Дунай…
– Да. Но теперь, когда вы знаете слово «куырой», можете добавить в этот список район Лондона – Кройдон.
– Это что получается? Мельничная река?
– Да. Аланы оставили свои топонимы по всем британским островам. Белфаст, например, переводится как «вспаханный лопатой».
– Хм, – ответил Коромыслов.
Дзера принесла длинную тарелку с огурцами, зеленым луком, помидорами и редиской, кувшин с аракой, стаканы, горшок с дзыккой и вазу.
– Соль не забудь, – напомнил я, потому что на осетинском столе обязательно должна быть соль. Соль связывает этот мир с потусторонним – поэтому на поминках, например, все блюда, включая сладости, посыпают солью.
– Я же правильно понимаю, – сказал Коромыслов, ставя букет в вазу. – Пока не принесут пироги, начинать нельзя?
– Все верно, – подтвердил Маир. – Вот вы понимаете. А многие осетины уже нет. И это плохо. В осетинской трапезе ведь каждая деталь имеет свое сакральное значение. Мы вам все сейчас на примерах объясним.
– Буду рад посмотреть и послушать.
Дзера принесла солонку и пироги, на которых лежали шашлыки. Вадим встал и налил всем араку. Тогда встали и мы с Маиром, а по нашему примеру и Коромыслов.
– Для начала мы должны выпить за Великого Единого Почитаемого Бога, – пояснил Маир для Коромыслова и взял в одну руку стакан, а в другую – шампуры. Он посмотрел на небо и произнес:
– О, Стыр Иунæг Кадджын Хуыцау, табу дæхицæн![13]
– Оммен, Хуыцау! – воскликнули мы с Вадимом.
– Æппæт дуне сфæлдисæг дæ, æмæ нæ дæ хорзæх уæд![14]
– Оммен, Хуыцау!
Маир сказал еще несколько фраз, так что мы еще три раза кричали «Оммен, Хуыцау!». Маир протянул стакан Вадиму и тот отпил из него, а потом откусил от шашлыка. Тогда Маир вернул шампуры на поднос, поставил стакан, оторвал кусок от верхнего пирога и положил его в рот Вадиму.
Настала моя очередь как второго старшего. Я возгласил:
– Æмбал кæмæн нæй, уыцы Иунæг Кадджын Хуыцау, табу де ʼстырдзинадæн! Дæ хорзæхæй кæддæриддæр хайджын куыд уæм æмæ нæ куывдтытæ де ʼккаг куыд уой, ахæм арфæ нын ракæн![15]
– Оммен, Хуыцау!
Я опустошил стакан.
Потом Вадим сказал свое слово и допил стакан, из которого до этого пригубил. Тогда Маир выпил свой стакан и посмотрел на Коромыслова. Тот сказал: «С Богом!» – и тоже выпил. Мы сели. Кроме Вадима, который резал пироги. Он спросил, кто какой пирог будет, и положил каждому, что тот попросил: Маиру – картофджын, Коромыслову – уæлибæх, мне – цæхæраджын. Потом положил каждому мясо с шампура. Только после этого он взял себе кусок мяса и кусок пирога, от которых откусывал, и сел.
– Приятный напиток, – Коромыслов понюхал пустой стакан.
– Осетинский виски, – ответил Маир. – Говорит о глубокой связи алан и кельтов.
– А знаете, Маир Валерьевич, то, что вы сейчас совершали, напомнило мне причастие.
– Это и есть причастие, – ответил Маир. – Только оно не имеет отношения к христианству. Осетинская, ир-ас-аланская обрядовость складывалась самостоятельно и намного раньше. Вам также могло показаться, что мы произносим «Аминь».
– Да, именно это я и расслышал.
– В каком-то смысле это и есть «Аминь», точнее более ранняя форма. Мы говорим: «Оммен, Хуыцау», что происходит от аланского «О, мейн Хуыцау», что означает «Да, мой Бог». Это в сокращенном и искаженном виде «Амен/Аминь» вошло в семитские языки, а оттуда и в другие.
Коромыслов взял огурец из овощной тарелки и задумчиво съел. Я принялся за пирог, пока горячий. Хороший получился цæхæраджын – сыр тянулся, а листья были без стеблей. Значит, и уæлибæх должен быть хорошим, достойным предстать перед важным гостем.
Коромыслов взял свой кусок пирога:
– Вот валибах. Прекрасная иллюстрация к моей сегодняшней лекции. Это пирог с сыром. Сыр – традиционная еда кочевников-скотоводов, а хлеб – еда оседлых земледельцев. Сочетание этих двух продуктов возникает вместе с государствами, которые есть синтез двух образов жизни. Кто ест пирог с сыром, тот и является носителем данной формулы власти.
Мне эти слова караул как понравились – и, по ходу, не только мне, так что мы все довольно откинулись на стульях. А Коромыслов спросил:
– А почему пирогов бывает три?
– Это довольно сложная символика, – опередил Маир меня и Вадима. – Мир, согласно учению древних ариев, подразделяется на три уровня: Верхний, который населен светлыми духами, Средний, который предоставлен человеку, обращающемуся за помощью к земным духам, и Нижний мир, скрывающий могущество сил земли и воды. У скандинавов они названы Асгард, Мидгард и Удгард.
– Кроме того, – добавил я, – три пирога – это будущее, настоящее и прошлое. Когда человек умирает, у него больше нет настоящего, он не присутствует в нашем мире. Поэтому на поминальные столы мы ставим не три пирога, а два.
– Ам фарны койтæ кæнæнт[16], – сказал Маир. – Сейчас мы сидим за квадратным столом. Но традиционный осетинский стол – круглый. Именно на такой стол наши предки клали пироги. Получается три круга в круге. Еще Блаватская описывала такой символ, а Рерих изобразил его на знамени мира.
– Ну и круглый стол короля Артура, я так понимаю, тоже к этому восходит. – Коромыслов откусил редиску. – Ведь прототип Артура был сарматским вождем.
– Да, да. Имя Артур переводится с осетинского как Огненное солнце.
Я съел кусок шашлыка, потом кусок картофджына. Он был суховат. Надо было к нему топленого масла попросить.
Маир вытер руки салфеткой и снова встал. Вадим снова наполнил стаканы.
– Второй раз, – Маир посмотрел на Коромыслова, – мы должны выпить за Уастырджи.
– О, этого я знаю! Это святой Георгий.
Мы аж стаканы опустили. Коромыслов – умнейший человек, но даже он поддался дезинформации. Пришлось правильно расставить акценты.
– Как бы проще объяснить, – начал Маир. – Уастырджи это не святой Георгий. Их часто отождествляют, потому что оба изображаются верхом. И еще праздник Уастырджи совпадает с Юрьевым днем. Но на самом деле это разные персонажи.
Коромыслов слушал с интересом, не опуская стакан. Маир продолжал:
– Различия есть уже во внешнем облике. Георгий – молодой парень, Уастырджи – старец. У Георгия самый обычный конь, у Уастырджи – трехногий и крылатый. Но самое главное отличие в том, что Уастырджи никогда не был человеком. Он – небесный покровитель путников и воинов, да и вообще мужчин, поскольку каждый мужчина – воин и путник.
– То есть бог дороги?
– Нет, нет, – запротестовали мы с Вадимом. – Бог – один! У нас не язычество!
– Уастырджи – посредник между Небом и Землей, – четко определил Маир.
– Кажется, понимаю. Вроде ангела?
– Да, вроде того.
Конечно, это не совсем правильно, поскольку ангел – авраамистское понятие. Но в двух словах лучше не объяснишь.
Мы выпили за Уастырджи. Коромыслов говорил «Оммен, Хуыцау!» в нужных местах. Снова сели.
– А что это в горшочке, Реваз? Вы, кажется, сказали, это для меня?
– Точно. Я чуть не забыл. Это дзыкка.
– Это как кашу едят?
– Нет. Оно слишком густое. Лучше вилкой или как фондю.
Коромыслов намотал дзыкку на вилку и попробовал.
– Очень вкусно и, чувствую, сытно. Там сыр?
– Да, еще кукурузная мука и сметана.
Он съел как минимум половину горшка. Мне было приятно, что я его удивил. Осетинские пироги и в Москве делают, а дзыкка – вещь редкая.
Вадим от второго стакана раздухарился:
– Вот вы, Алексей Зенонович, знаете, как наш город называется по-осетински?
– Нет. Знаю только, что в советское время он назывался Орджоникидзе.
– Не все советское время. До революции город официально назывался Владикавказ, после его переименовали в Орджоникидзе. Но осетинское народное название всегда было Дзæуджыхъæу, Дзауджикау. И вот однажды первому секретарю Северо-Осетинского обкома Кубади Кулову позвонил лично Сталин. Он спросил у Кулова по-осетински: «Как ваша столица называется?» Тот ему отвечает: «Орджоникидзе». А Сталин такой: «И вам нравится это название? Его ведь трудно произносить, и оно не историческое. Я слышал, что родное название города Дзауджикау». Кулов ему: «Совершенно верно, товарищ Сталин, Дзауджикау». И тогда Сталин сказал: «Ну, так его и назовите».



