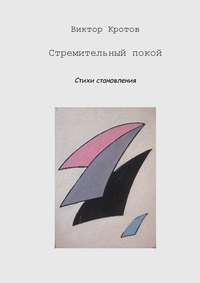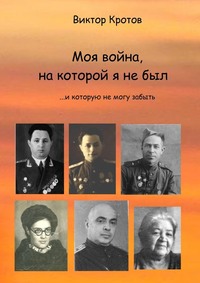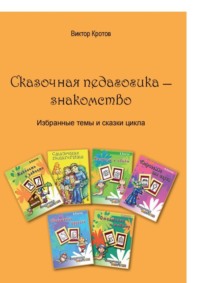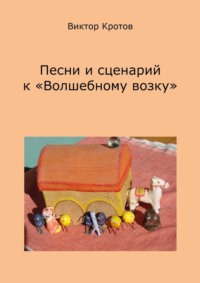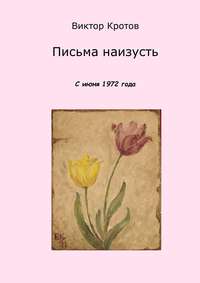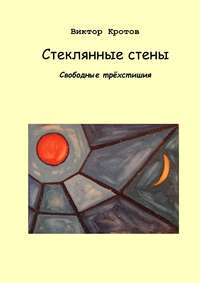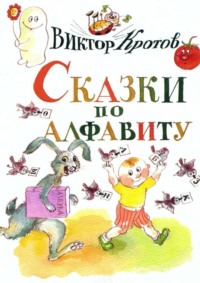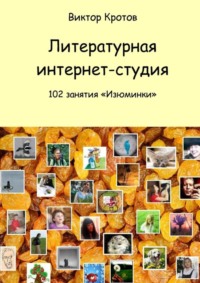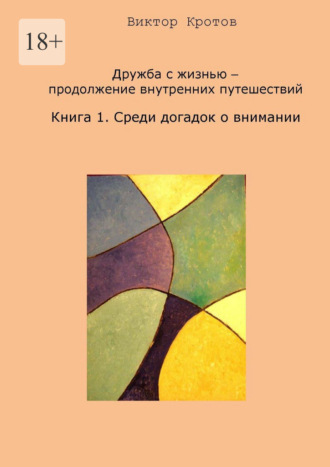
Полная версия
Дружба с жизнью – продолжение внутренних путешествий. Книга 1. Среди догадок о внимании
Создание систем, конструкций или моделей – не профессионально философских, а на уровне хобби – вполне естественное стремление привести результаты своего спонтанного увязывания в некоторый законченный вид.
Это похоже на авиамоделирование. Как увлечённый авиамоделист может со временем стать авиаконструктором, так и от мировоззренческого конструирования человек может перейти к построению полноценной философии.
Мировоззренческая конструкция не всегда сама по себе превращается в учение, имеющее последователей и опровергателей. Для этого ей надо затронуть живые человеческие интересы, быть поучительной, с точки зрения личностного увязывания. Или затронуть интересы философского сообщества – так, чтобы в нём нашлись популяризаторы и перелагатели разных уровней, которые смогли бы донести смыслы, зафиксированные конструкцией, до тех же человеческих интересов.
Всякое учение для живого человека, принявшего его к руководству, – лишь конструктор, из элементов которого он сооружает собственную конструкцию. Может быть, она сделана не по правилам и даже не отвечает всем предпосылкам самого этого выбранного учения, но в этой конструкции участвуют вкус и темперамент усваивающего человека. Поэтому именно она наилучшим образом вмещает его представления о мире.
Легко посмеиваться над древней мировоззренческой конструкцией из трёх слонов на громадной черепахе. Но можно и восхититься этим мощным и отважным образом, соединяющим привычное с величественным – как соединяется это и в реальном мироздании. И даже когда постепенно эта конструкция оказалась не нужной для понимания мира, к ней нет-нет, да обратится чьё-то поэтическое воображение. Значит, образ уцелел и сохранил свою жизнеспособность. Спасибо тому смельчаку, кто первый был озарён этой метафорой. На таких, как он, держится готовность человечества постигать мир.
Всякое философское учение, будь то личная система мышления о мире или целая школа с основоположниками и последователями, – это не только некий отдельный продукт, задающий мировоззренческую ориентацию. Это ещё и часть общечеловеческого мышления о жизни. Это комплекс проработанных учением ракурсов. Можно даже сказать: букет ракурсов, преподнесённый обществу.
Эти ракурсы постижения выросли из посадочного материала, подготовленного предшественниками, и сами станут посадочным материалом для будущих постижений и учений. Чтобы новый мыслитель мог вырастить и вручить человечеству свой эстафетный букет новых представлений о жизни, которая остаётся единой и неисчерпаемой для всех нас.
Учение должно позаботиться не только о мировоззренческой конструкции, но и об инструкции: как ею пользоваться.
Не всякая мировоззренческая конструкция бывает признана философским учением. Не всякая обращена к другим людям. Не всякая использует исключительно выстраивающее мышление. Но всякая основа мировоззрения должна быть чем-то полезна человеку, который ею пользуется. Вопрос в том, для чего полезна: для душевного комфорта или для творчества? Для созидания или для разрушения? Для светлой жизни или для какой получится?..
В основе любого учения лежит некая конструкция из представлений о мироустройстве. Плоть учению придают разнообразные наслоения – образные, сакральные, манипулятивные – всякие. Это естественно и неминуемо. Но, к сожалению, бывают такие аморфные учения, снаружи выглядящие нарядно, что их внутренняя конструкция, если её внимательно рассмотреть, оказывается чем-то вроде детской самоделки.
Самая рискованная, самая отчаянная область научной философии – метафизика. С одной стороны, она необходима выстраивающему мышлению, как необходим фундамент зданию. С другой – этот штурм области Тайны с помощью исключительно выстраивающих средств мысли довольно беспомощен. И разум неизбежно начинает включать в метафизические построения элементы улавливающего мышления.
Задача философского учения – не научить, а обеспечить возможность чему-то научиться.
Философское учение должно стремиться вызвать человека на полемику. И даже если в этой полемике он останется при своём, учение всё равно принесло ему пользу возможностью альтернативного взгляда.
Философская модель важна не только сама по себе, чтобы целиком принять её или отвергнуть. Она достойна внимания своей энергией вызова, а также той средой мышления, которую она создаёт по-своему, но – для тебя.
Философий очень много. Но у каждого человека – своя личная философия, сотканная из многих и не совпадающая ни с одной. Даже у создателя любой философии, достигшей общеизвестности, его философия-для-всех отличается от философии-для-себя. И дело не в лицемерии, а в невозможности вербализовать и сделать публичными все личные тонкости осмысления жизни.
Каждое философское учение – это верфь для сооружения собственной мировоззренческой конструкции человеком, которого учение заинтересовало. Или для строительства стандартных моделей: ими пользуются те заинтересовавшиеся, кому недосуг прикладывать свои усилия.
Каждая из этих путевых заметок – лишь краткое упоминание об увиденном, которое могло бы стать катализатором самостоятельной книги о встреченном и увиденном во внутреннем мире. Например, когда-то давно у меня была написана отдельная книга под названием «Человек среди учений». Но вот я снова попал в эти края и делюсь с тобой новыми ощущениями, даже не заглядывая в написанное прежде. Всегда есть место новым впечатлениям и переосмыслению старых.
Личное мировоззрение может разрастись в ориентирующую структуру, которая может перерасти в учение, а от него могут отпочковаться мировоззренческие подходы последователей или критиков… Это и есть жизнь философии. Попытки выстроить этот процесс в рациональную науку – тоже способ мышления, но живая философия в наукообразные рамки никак не вмещается.
Мировоззрение может быть цельным или фрагментарным. Оно может быть чисто внутренним или нашедшим проявление для других. Проявление может быть словесным или поведенческим… Важно усваивать лишь то, в чём нуждается твой собственный взгляд на мир.
Свободная философия – это не совсем то, что принято называть свободомыслием. Это не просто независимость от догм, которыми руководствуется окружение, но и первопроходство в тех областях мышления, которым не было уделено достаточного внимания.
Никакое учение не может сказать, каким должно быть твоё мировоззрение. Учение может лишь предложить некоторые основы для него.
Есть философы, которые развивают некоторые взгляды не потому, что эти взгляды составляют часть их мировоззрения, а потому что развитие этих взглядов является частью их философской профессии. Тем самым они умаляют смысл самой философии, подсовывая ей вместо своих убеждений дешёвые конъюнктурные заменители.
Даже самое близкое тебе философское учение может остаться лишь костяком твоего мировоззрения. Плоть придётся наращивать самому – своим осмыслением и усвоением того, что довелось узнать.
Некоторые мировоззренческие конструкции можно было бы назвать деструкциями, настолько они разрушительны для самостоятельного мышления. Это схемы, на которых основаны фанатизм, зомбирование, цинизм, скептицизм (уничтожающий всё, даже сам себя) и прочие агрессивные модели мышления.
Может ли учение быть воспринято без людей, которые преданы ему, без тех, кто умеет растолковать его, без свидетельств его жизненности в делах последователей?.. Если ты ответишь «может», я спохвачусь и переспрошу, добавив: «воспринято полноценно», – то есть так, чтобы хотелось его усвоить и жить им, а не просто расширить свою эрудицию.
На рынке вооружений ищут возможности добиться силой власти над другими. На рынке мировоззрений можно найти возможности добиться власти над собой и своим миром. Над целым своим миром!..
Не все виды мировоззрения уместно называть конструкциями. Среди них бывают и своего рода пещеры, где человек нашёл естественный приют для своего представления о жизни. Бывают шалаши, неуклюже составленные из нескольких веток или образованные кроной упавшего дерева. Бывают такие убежища, что и не разобрать, потрудился ли над ними человек, так они вросли в окружающую среду… или выросли из неё?.. Но будем всё-таки пользоваться словом «конструкция», исходя из того, что нечто своё человек так или иначе в неё вносит – хотя бы самого себя.
От мировоззрения до философской системы – большой участок работы для выстраивающего мышления. От философской системы до мировоззрения – большой участок работы для личного усвоения.
Мироздание – работа Творца.
Мироустройство – наш взгляд на мироздание, по-человечески прагматичный.
Миропорядок – конгломерат попыток человечества организовать собственную жизнь на Земле.
Глава 2—2.
Религиозные учения
Окна к Высшему или заповедники веры?
Принять религиозное учение – значит стать на путь его освоения. Стержень приверженности к нему – живое чувство веры. Ориентиры учения требуют личностного увязывания. Важно отличать религию как способ личной ориентации от религии как идеологии, подчиняющей личность догматам.
Из нескольких религий не соорудить одной веры.
Бери у религии соединяющее с Высшим и с другими людьми. Остерегайся разъединяющего.
Главный смысл религиозного учения остро воспринимается людьми, нашедшими в нём свою духовную Общность. Для других это учение тоже может быть значительно – прежде всего, своим метафорическим потенциалом, позволяющим прикоснуться к области Тайны.
Каждое религиозное учение представляет собой особую систему ориентирования в жизни. Но и среди религий тоже стоит уметь ориентироваться. Особенно если ты ещё не сделал свой выбор. Если же выбор сделан, можно задуматься о сущностных свойствах чувства веры и религии, о том, чтó общего у религиозных учений, а также какова их связь с учениями внерелигиозными.
Религиозное учение – это сумма стараний интеллекта выстроить грандиозную пирамиду мысли, руководствуясь озарениями и опытом веры. Это рациональная концепция, созданная из эмоционального и национального, это веровательная эстафета.
Религиозное учение – это смесь веровательного и мистического опыта с теологией, философией и социально-организационными принципами, позволяющими учению сохранять себя как единую сущность.
Религия – поддержка для веры и великое её испытание.
Вера – это стремление быть причастным к Тайне, а не понимать её.
Религиозные учения помогают сопоставить крупицы личного мистического опыта с верхними уровнями смысла. Соединяют в едином поле многие образно-метафорические идеи, создающие и укрепляющие личное мировоззрение.
Взгляд свысока на все религии как на спекуляции или как на результат недоразвитого мировосприятия обычно является следствием резкого перекоса в сторону выстраивающего мышления, а также недостаточного уважения к Тайне.
Чрезмерное благоговение перед учением, лежащим в основе той религии, к которой относится твоё собственное чувство веры, препятствует доброжелательному неревнивому взгляду на другие религии и мешает трезвому пониманию реальных свойств твоей конфессии.
Храм вырастает вокруг тебя всюду, где ты творишь искреннюю молитву.
Церковь – это храм из храмов. А община – городок, в котором личные храмы соседствуют друг с другом.
Религия соединяет. Вера обеспечивает способность к соединению.
Вера необходима как единственный путь восприятия всего, чьи истоки скрыты в Тайне. А есть ли на свете что-нибудь другое?..
Религия – это прежде всего уважение к Тайне. Лишь бы не сводить Тайну только к тому, что известно тебе. Тайну на куски не режут.
Молитва – как поворачивание листка или цветка к свету – естественный импульс. Он может быть заглушён какими-то обстоятельствами жизни. Но в твоей власти высвободить его, дать ему действовать.
Жить надо по своей вере, а не по той, которую от тебя ожидают.
Вера, которая не подтверждается пронзительными прикосновениями к Тайне, немощна. Вера, которая не считает себя истинной, сомнительна. Но верующий с претензией на исключительность своей веры, претендует на обладание всей Тайной, которая в него никак не может поместиться.
Чтобы не стать книжником и фарисеем, нужно всегда быть немного еретиком.
Ощущение богооставленности знакомо только тому, кто испытывал богоприсутствие.
Религия может быть и путём к спасению, и соблазном. Вернее, это путь к спасению, полный губительных соблазнов. Вера – это часть души, и она всегда спасительна.
Увязывание своей веры с общей религией не всегда просто, но на пользу вере, если её жизнеспособность при этом утверждается, а не угнетается. Это на пользу и религии, если она готова считаться с живыми чувствами, а не подчинять их во что бы то ни стало накопленным догмам.
Как донести центральное представление о сущности жизни до каждого? Подумай как следует – и ты придёшь к религиозной проповеди.
Проповедь – напоминание о заповеди. Исповедь – раскаяние в забвении её.
Боязливая подмена Тайны житейской полезностью, веры – религиозной традицией, заповедей – уходом от эгоизма. Это можно назвать миловерием. Оно толерантно, экуменично, удобно… но… но… но…
Маловерие перестаёт жаждать большего, если превращается в миловерие.
Молитва – это рыхление душевной почвы для духовной влаги.
Молитвой мы создаём для себя поле духовного напряжения жизни. И оно само по себе – уже ответ на молитву.
У веры есть свои Сцилла и Харибда – это фанатизм и безверие.
Фанатизм – это затачивание веры до безжалостности.
Теология – своеобразная часть философии, своего рода приусадебный философский участок той или иной религии. Профессоризм вредит теологии так же, как и всей философии, но гораздо быстрее.
Мировоззрение – это ориентация. Но какие бы точные карты перед тобой ни лежали, надо ещё решать, куда идти. Это уже не мировоззрение, а миростремление.
Позорят свою веру, в основном, сами верующие. Сторонние нападки могут лишь усиливать её достоинство.
Принцип диалога между религиями: расхождения остаются нашим частным делом. Общности заслуживают развития и углубления.
Религиозное учение само по себе не является верой, хотя из этого чувства оно и возникает. Не является оно и религией, хотя и лежит обычно в её основе. Стоит помнить, что религиозное учение – выстраивающая система, со всеми плюсами и минусами. Нужно брать от неё лучшее и быть осторожным с её рациональными заскоками.
Религиозные учения лежат в основе религий, но не исчерпывают их. Религия всегда эмпирична, решающую роль в ней играют чувство веры и тот мистический опыт, который оно помогает получить человеку. А также тот опыт социально-общинного единения, к которому ведёт внутриконфессиональное общение.
Религиозной философии трудно быть свободной. Увы, она зажата между теологией (вкупе со всеми авторитетными источниками, на которые теология опирается) и мирской философией (с её собственными авторитетами). Но отвечает религиозный философ лишь перед Всевышним.
Последователей религиозного учения собирают вместе авторитет основателя, традиция и личный веровательный опыт – можно назвать его мистическим или, по-другому, опытом чувства веры. Именно последний элемент имеет принципиальное значение: без него религия превращается в механику управления толпой.
Религиозное учение должно учить вере, а не религиозности.
Религиозное учение должно не противопоставлять себя философии, не подменять её теологией, а создавать свою философию, подводящую к тому, что лежит за её пределами и куда вхожи лишь вера, надежда и любовь.
Человек верующий – не антоним и не синоним человека мыслящего. Вера направляет мысль. Мысль укрепляет веру. Им не из-за чего противоборствовать.
Религиозное учение – это проповедующее учение. То есть основанное на пропаганде веровательного и церковного опыта. Плохо, когда проповедь подменяется манипулированием. Таким путём можно формировать религиозного человека, но невозможно верующего.
Тогда как философские учения ведут между собой постоянную дискуссию, строят и перестраивают (например, с приставкой «нео») свои модели и конструкции, религиозные учения тяготеют к традиции и «твёрдости в вере». Но борьбу за человека, то есть поведенческую полемику, понятную людям, ведут как раз религиозные учения – в той степени, в которой они обращаются к обычному человеку и к его жизненной проблематике.
Проблема прозелитизма – это вопрос подмены свободы души её перевербовкой.
Каждому религиозному человеку полезно время от времени представить себя среди множества религий, разноречивых и в каком-то смысле равноправных. Представить себя в ситуации выбора среди них. И выбрать себе религию заново – свободно и обоснованно. Скорее всего, это будет его собственная религия, но отношение к ней станет обновлённым и укрепившимся.
Доброкачественность религиозного учения состоит в том, чтобы оно стремилось уловить что-то важное в области Тайны. Если оно направлено на это, то уже достойно уважения. В то же время и доброкачественное учение иногда используют унижающим его образом: для манипулирования, для достижения корыстных или социальных целей. Это не вина учения, а злоупотребление им.
Религиозные учения миролюбивее друг к другу, чем люди. Область Тайны бесконечна, и им там нечего делить: каждое учение по-своему старается уловить своё главное. Но люди желают недостижимого – абсолютно истинного знания – и норовят объявить таковым именно то, что уловило учение, приверженцами которого являются они сами.
Религиозное учение можно было бы называть веровательной системой, потому что главным его делом является формирование и жизнеобеспечение чувства веры в человеке. Но к этому главному делу добавляется столько дополнительных функций, а систематическое настолько вытесняется традиционным и догматическим, что… будем лучше говорить о религиозных учениях: соединяющих и поучающих.
Никому не придёт в голову критиковать младенца за то, что он ещё не умеет ходить и забавляется погремушками. Мы понимаем, что это естественно, это соответствует его возрасту. Мы не критикуем инвалида с парализованными ногами за то, что у него особые обстоятельства. Так же нелепо упрекать человека в обрядоверии или в других религиозных «заблуждениях». Можно понять, что это соответствует его духовному возрасту или внутренним обстоятельствам. Но и тут нет препятствий для нашего сочувствия и соучастия, как в развитии ребёнка или в помощи инвалиду – то есть в меру нашей любви. Именно мерой любви решаются главные вещи, а не мерой критичности.
Народные верования, как и фольклор, выглядят стихийно, но порождают самоцветы образов и символов, которым суждено войти в сокровищницу мировой культуры.
Всякое религиозное учение – оазис особой приметчивости в области Тайны, результат применения преимущественно улавливающего мышления.
Ядро религии – это учение-свидетельство. Но рано или поздно вокруг него образуется учение-поучительство. И странно было бы, если бы этого не происходило: как не стремиться поделиться тем важным, о чём узнал, с другими! А если не понимают – растолковать, научить.
Религия беззащитна перед чисто рациональным способом мышления. Но каждый истинно религиозный человек знает нечто, относящееся к улавливающему мышлению, что делает его неуязвимым для рационалиста.
Атеизму можно найти более подходящее имя: безрелигиозность. Тогда обнаружится, что это гораздо более редкое явление, чем принято думать. Отрицая существование Бога, атеизм обзаводится, тем не менее, различными религиозными (или псевдо-религиозными) пристрастиями к тем ценностям, которые культивирует то или иное общество: к определённой идеологии, к науке, к семье, к родине и так далее.
Религиозные учения сосредотачивают в себе и честные свидетельства, и беллетризованные, а также просто выдумки. Может быть, с помощью какого-то полиграфа и подходящей методики можно в этом разобраться. Но эти учения включают ещё и откровения, которые считаются пришедшими свыше, а среди них могут быть и мнимые, и вправду возникшие из области Тайны. Этого уже никаким полиграфом не уточнишь, и методический подход здесь один – через собственную интуицию. Вот и получается, что оценивать достоверность – тебе, принимать или отвергать ориентиры – тебе. Ведь ты сам решаешь, нужно тебе это или не нужно.
Деизм – учение о некотором отвлечённом божественном начале – максимально обезличивает Высшее. Но улавливающее мышление, по своим таинственным ощущениям, настроено против такого подхода, свойственного выстраивающему мышлению. Интуитивно человек чувствует, что некий важный смысл при этом утрачивается, остаётся абстрактная конструкция. Поэтому такое обезличивание компенсируется личностями наиболее выдающихся проповедников подобных идей. Имена этих проповедников становятся персонификацией – пусть не самого Высшего начала, но отношения к нему. Так французский деизм превращается в вольтерьянство, а учение Будды об избавлении от страданий – в буддизм.
Противопоставлять друг другу религиозные учения, подтверждая или опровергая истинность каждого из них, совершенно бессмысленно. Это лишь демонстрирует неуважение к Тайне. Уходя от таких противопоставлений, вполне можно оставаться преданным своей вере.
В чём помогает человеку ориентироваться его религия? В жизни и в её осмыслении – или в тех догматах, которые эта религия проповедует? Зависит ли это от религии или от тебя самого?
Религия – понятие широкое, его можно прилагать и к тому, и к сему. Религиозное учение – это то, что обеспечивает объединительную силу религии, собирая вместе тех, кто принимает его принципы. Вместе с тем религиозные учения служат основой разделения религий. А внутри одной конкретной религии служат основой для разделения её на конфессии. Да и внутри одной конфессии могут возникать разные учения, тогда разделение продолжается. Об этом надо знать при ориентировании. Об этом стоит забыть, когда сориентировался.
Глава 2—3. Философичность и религиозность
Средства для воздухоплавания или надувные пуфы?
Философии – пути постижения себя и мира – противостоит философичность как психологическое свойство, а религии – пути познания Высшего – свойство религиозности. Философичность и религиозность полезны как разумный стиль внимания к жизни, но опасны, если пригашают это внимание и равнодушны к смыслам.
Не прячься в философичность или религиозность от себя самого. Пусть они продвигают тебя по твоему пути, а не притормаживают.
Мудра ли философичность? Верит ли религиозность? Или они помогают человеку убегать от собственного выбора?
Философичность и религиозность как свойства человека – хорошо это или плохо? Помогает ли философичность или мешает философскому интересу к жизни, её осмыслению? Помогает ли религиозность развитию чувству веры? Нам важно постараться понять их возможности, вызываемые ими затруднения, их достоинства и недостатки.
Наряду с философией как путём постижения себя и мира существует философичность как беспредметная задумчивость, тормозящая на этом пути. Наряду с глубинным чувством веры существует и общая беспредметная религиозность. Стоит это себе представлять, чтобы избегать самообмана.
Философичность полезна как стиль поведения, которому свойственна толерантность, продуманность суждений, внимание к существенным проблемам, требующим глубинного решения. Философичность опасна, когда превращается в равнодушие, в прагматизм, в цинизмкогда подменяет реальное осмысление декоративным глубокомыслием.
Философия как внимание к смыслам определённым образом противоположна философичности как уходу от глубинной работы постижения. Но доброкачественная, «философская философичность» может стать замечательным естественным свойством натуры. Это практическое проявление философского отношения к жизни.
Религиозность может способствовать укреплению чувства веры, но может и рассредотачивать его, подменять главное второстепенным, культивировать патетику, восторженность, ханжество.
Философичность и религиозность как свойства дружбы с жизнью должны способствовать вниманию к жизни, а не пригашать его.
Философичность как свойство – это сырьё, которое может перерабатываться в углублённость или в отстранённость. Это выбор между мудростью и мудрствованием. Но это и способность сохранять равновесие в неравновесных ситуациях.
Философичность может придавать характеру уравновешенность, мышлению любознательность, а поведению созерцательность. Но иногда это просто смесь терпимости, скепсиса и желания поумничать. Тогда она может стать интеллектуальным дизайном мировоззрения или маскировкой его отсутствия.