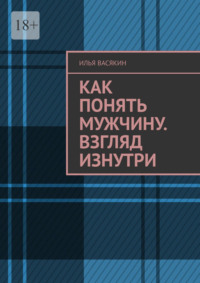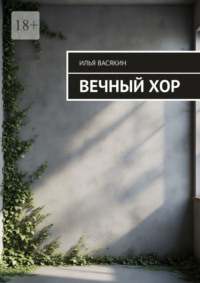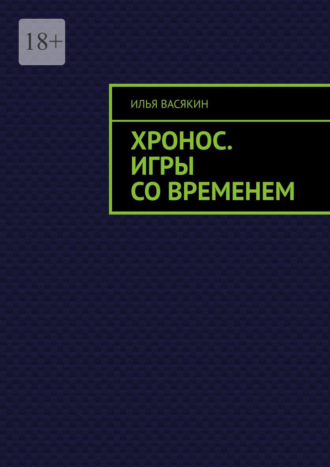
Полная версия
Хронос. Игры со временем
– Знаешь, Ремарк? – его голос был спокоен, почти легок, как у человека, сбросившего тяжкий, невидимый груз веков. – Лучше быть никем… с грязью под ногтями и краской в душе… – он мягко, почти нежно положил кисть на край банки, как кладут оружие после последнего боя, – …чем пустым местом в золотой раме с биркой «гений». Пустой рамой на стене вечности, в которой отражается лишь черная бездна Хроноса.
За дверью послышался звук тяжелых, мерных, абсолютно синхронных шагов по скрипучей лестнице. Не двух, не трех – множества. Десятка. Металлический скрежет – открываются замки на странных, угловатых чемоданах? На орудиях стирания? Холодное, абсолютно безжизненное, лишенное влаги дыхание, просочившееся сквозь щели под дверью, потянуло морозом вечной мерзлоты. Машина времени пришла за своим должником. За своей собственностью, осмелившейся вспомнить себя.
Лео Карвер медленно повернулся к запыленному, покрытому жирными разводами и брызгами старой краски окну. На нем, сквозь стекающие струйки грязно-бурой, как ржавчина, воды, отражалось его лицо. Не старика из пентхауса. Не призрака из зеркала. Его собственное, изможденное, но живое лицо. С едва заметной, горькой, но подлинной тенью улыбки в уголках потрескавшихся губ. Улыбкой свободного человека, нашедшего себя в бездне. Он поднял руку, исчерченную морщинами и пятнами, но свою, и коснулся отражения.
– Я готов, – прошептал он каплям дождя на стекле. И впервые за два года почувствовал не покой, а неистовую, ликующую ярость бытия. Даже если это бытие длилось секунды.
За его спиной, с оглушительным, сокрушительным грохотом, сорвавшим не только замок, но и петли, вырвавшим дверь из косяка, распахнулся проем. Холодный, безжалостно белый, слепящий свет прожекторов с лестницы ворвался в комнату, ослепив, выжег сетчатку, отбросив на стены, на только что законченный портрет, длинные, искаженные, нечеловечески угловатые, лишенные всякой плавности тени. Тени без лиц, без деталей, просто черные, режущие глаз силуэты, заполняющие дверной проем. За ними – глубокая, беззвучная тьма коридора.
ТИШИНА.
ТОЛЬКО ДОЖДЬ ЗА ОКНОМ, СТУЧАЩИЙ ПО КРЫШЕ, КАК ПАЛЬЦАМИ ПО КРЫШКЕ ГРОБА.
И РЕЗКИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩЕЛЧОК… КАК ВЗВОД КУРКА.
КАК ЗАПИРАНИЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА.
КАК ЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ.
РАССКАЗ ВТОРОЙ: ОСТАНОВКА 22:17
Пролог: Пепел, Свинец и Мерцающая Краска
Дождь в Лос-Анджелесе был не явлением природы, а состоянием бытия. Он лился беспрестанно, монотонно, смывая границы между днем и ночью, реальностью и кошмаром. Воздух в Даунтауне был густым коктейлем из мокрого асфальта, выхлопных газов, гниющей органики в переполненных стоках и вездесущего озона – едкого, металлического, как запах сгоревшего трансформатора. Неоновые вывески топились в лужах, превращая отражения в абстрактные полотна больного экспрессиониста – кроваво-красные мазки, ядовито-желтые пятна, синюшные разводы. Над всем этим, как черный клык, впившийся в брюхо небес, царил Хронос-Тауэр. Его стены из обсидианового стекла жадно поглощали скудный свет, а низкочастотный гул из вентиляционных решеток вибрировал в костях прохожих, ощущаясь как глухое биение сердца Левиафана.
Ремарк стоял в опустевшей, выпотрошенной временем студии Лео Карвера над вьетнамской забегаловкой «Фо Бо». Воздух был спертым, пропитанным пылью веков, засохшей масляной краской, въевшейся плесенью и… пустотой. Той особой пустотой, что остается после стирания. На полу, среди осколков вырванной петлями двери и крошек штукатурки, осыпавшейся с потолка словно перхоть гиганта, лежала одинокая кисть. Не простая. Дорогая, колонковая, с темным, отполированным годами пальцев деревом ручки и потускневшим золотым ободком у основания щетины. На кончике щетины застыла капля краски. Не ультрамарина, не охры. Мерцающей, фосфоресцирующей в полумраке субстанцией. Цвет ее был неуловимым – то ли темно-фиолетовый с прожилками ночи, то ли черный, испещренный крошечными, ядовито-зелеными искрами. Она пульсировала едва заметно, синхронно с гудением Башни за окном, словно живой орган, отрезанный от тела. Ремарк поднял ее, обернув грязным холщовым лоскутом из-под ног. От прикосновения к ручке пробежал ледяной ток, как от прикосновения к оголенному проводу под напряжением. Он сунул кисть во внутренний карман плаща, туда же, где лежала выцветшая, заломленная по краям фотография Лоры – девушки с размытым лицом и кричаще-ярким бикини.
Его единственный глаз, серый и выцветший, как дождевое небо, скользнул по стенам. Там, где висел последний, незаконченный, подлинный крик души Лео – портрет «Настоящего Себя» – остался лишь призрачный прямоугольник чистой, слишком чистой стены. Картина исчезла вместе с художником. Только на полу, у основания покосившегося мольберта, валялся крошечный треугольный осколок холста. На нем – фрагмент нарисованного глаза. Всего лишь уголок, с прожилкой красной капилляры на склере и тенью морщины у внешнего уголка. Глаза, который видел. Видел правду. Ремарк поднял и его. Доказательство. Доказательство существования чего-то настоящего перед лицом стирания. Он сунул осколок в карман рядом с кистью. Коллекция обреченных. Он знал, Хронос стирал людей, как опечатки в вечном контракте мироздания. И он чувствовал тяжелый, безликий взгляд их сканеров на своей спине. Он был следующим. Но прежде чем раствориться в небытии, он утащит с собой в бездну кого-то из них. Хотя бы одного. Анастасию Вейл. Ее фарфоровую маску. Ее озоновое дыхание.
Часть I: Метроном без Ритма
Майлз «Метроном» Чен когда-то был богом ритма. Его руки на барабанных пластиках творили магию хаоса и порядка, заставляя сердца толпы биться в унисон с его бешеным соло. Теперь его сердце стучало тяжело, неровно, как споткнувшийся паровоз, под грубой синтетической тканью формы таксиста компании «Хроно-Кэб». Он сидел в своем потрепанном жизнью и дорогами, пропахшем дешевым сосновым освежителем, старым потом, рвотой пьяных пассажиров и горечью поражения седане, желтом, как больная печень под ультрафиолетом. Машина была его клеткой, саркофагом на колесах, передвижной могилой для того, кем он был. Руки, некогда летавшие по установке с яростью и грацией ястреба, теперь деревенели на липком кожаном руле. Пальцы бессознательно, в такт умирающему сердцу, отбивали на ободе мертвый, монотонный ритм – тук-ТУК-пауза, тук-ТУК-пауза. Только четыре четверти. Без синкоп. Без свинга. Без души. Так было с тех пор, как он поставил подпись на гладкой, холодной, как лезвие электронной панели в стерильном офисе Хронос-Медикал. Продал не просто чувство ритма. Продал саму пульсацию жизни, джазовую импровизацию – умение слышать музыку в шуме города, в биении сердца дочери, в тиканье часов. Продал за ничтожный, сияющий мираж – шанс спасти Лизу. Свою девочку. Свет в конце тоннеля, который погас, едва успев разгореться, поглощенный черной пастью Хроноса. Лиза умерла через тридцать семь дней после подписания контракта. От «непредвиденных иммунокомплексных осложнений на фоне экспериментальной терапии». От циничной формулы в отчете. От чертовой иронии машины, перемоловшей его надежду в пыль. Теперь он возил по городу призраков и пьяниц, наркоторговцев и проституток, а в багажнике, под запаской и тряпками, лежал старый снейр-барабан «Ludwig», покрытый пылью, как саван, немой укор его предательства.
Ремарк выследил его не по базам данных – базы Хроноса были чище, чем совесть палача. Он нашел его по аномалии. По перекрестку на 5-й и Мейн – месту, где в 22:17 разбилось уже три желтых «Хроно-Кэба» за последний месяц. Все – в одну и ту же минуту. Все – словно врезались в невидимую стену. Все – с водителями, чьи лица на полицейских фото были искажены немым ужасом, а не болью от удара. Ремарк сидел теперь на заднем сиденье машины Майлза. Его промокший плащ тяжело обвисал на потрепанном виниле, распространяя запахи мокрой шерсти, дешевого табака и старой крови. Он наблюдал за таксистом в зеркало заднего вида. За его пустыми, устремленными в хлещущий дождь глазами – глазами рыбы на прилавке. За нервным тиком, дергавшим левый угол рта. За дрожью в пальцах, застывших в одном, неестественно жестком положении на руле, словно приклеенных.
– Расскажите о перекрестке, – хрипло проговорил Ремарк, разбивая гнетущую тишину, нарушаемую лишь стуком дворников-скелетов и мертвым метрономом пальцев Майлза.
Майлз вздрогнул, будто получив удар током. Его плечи сжались.
– Какой… перекресток? – его голос был скрипучим, лишенным модуляций, как голос текст-ридера.
– Пятая и Мейн. Двадцать два семнадцать.
Пальцы Майлза замерли. На долгую, тягучую секунду. Потом снова задвигались. Тук… тук… тук… пауза. Тук… тук… тук… пауза. Быстрее. Нервнее.
– Не знаю, – пробормотал он, сжимая руль так, что костяшки побелели. – Просто перекресток. Езжу. Каждый вечер. Маршрут.
– Каждый вечер в 22:17 вы там оказываетесь. Как по расписанию. И что-то происходит. Что-то ломается.
Майлз резко повернул голову. Глаза его впервые встретились со взглядом Ремарка. В них мелькнуло что-то дикое, паническое, звериное.
– Ничего не происходит! – прохрипел он, слюна брызнула на руль. – Просто остановка! Пассажиры выходят, заходят! Светофор! Все как всегда! Обычный перекресток!
– Какие пассажиры? – настаивал Ремарк, его голос был тихим, но острым, как шило. – Кто выходит в 22:17 на Пятой и Мейн посреди ливня? В этом районе? В это время? Призраки? Или… девочка?
Слово «девочка» сработало, как выстрел. Майлз зажмурился. Его пальцы забили по рулю бешеную, бессмысленную дробь агонии. Губы задрожали.
– Обычные… Люди… – он выдохнул, словно проваливаясь в себя. – Иногда… девочка. В синем… С капюшоном… – Голос сорвался в шепот, полный такой тоски, что Ремарк почувствовал ее физически, как холодный нож под ребра. – Она… ждет автобус… которого… никогда не будет.
Часть II: Глазами Старой Вороны
Ремарк вернулся на перекресток днем. Без Майлза. Дождь моросил, превращая улицы в серое, блестящее месиво. Перекресток Пятая и Мейн был ничем не примечателен – грязные фасады, зарешеченные витрины дешевых магазинчиков, вечно горящий желтый светофор. Но Ремарк чувствовал остаточное напряжение, как после грозы. Он заметил старую женщину, сидевшую на скамейке под навесом заколоченного кафе. Она была завернута в десяток поношенных кофт, а ее лицо, изборожденное морщинами, как старая карта, было неподвижно. Но глаза… маленькие, черные, блестящие, как у вороны – следили за перекрестком с гипнотической интенсивностью. Ремарк подошел, доставая потрепанную корочку «частного сыщика» – поддельную, но убедительную.
– Тетя, – начал он, хрипло, по-свойски. – Слышал, тут ночью странности бывают. На перекрестке. Такси бьются.
Старуха медленно перевела на него блестящие черные бусины глаз. Губы ее, тонкие, как лезвие бритвы, шевельнулись:
– Странности… – проскрипела она. – Да тут все странное. Город с ума сошел. Они его сожрали. – Она кивнула в сторону едва видневшейся в тумане верхушки Хронос-Тауэр. – Но тут… да. Тут время болеет. Каждую ночь. Когда часы два кола и два крюка показывают. – Она изобразила цифры пальцами в воздухе: 22:17. – Воздух густеет. Как кисель. Света гаснут. А потом… Она приходит.
– Она?
– Девочка. В синем. С капюшоном. Призрачок. – Старуха понизила голос до шепота, полного суеверного ужаса. – Стоит. Ждет. А потом… желтая машина. Из ниоткуда. И водитель… он выходит. Зовет. Плачет. А до нее дотронуться нельзя. Рука проходит сквозь. Как сквозь дым. А потом… грохот. Или тишина. А утром… только масляное пятно да осколки. И запах… озона. Сильный. Как после молнии. – Она ткнула костлявым пальцем в асфальт рядом со скамейкой. Там было темное, маслянистое пятно. – Вчерашнее. Третье за месяц. Желтые гробы. Водители… их лица… на фотках в газете… пустые. Как у покойников. Только глаза… страшные. Видели что-то. Что стирает. – Она замолчала, уставившись снова на перекресток. – Они играют. С людьми. С временем. Как кошки с мышкой. Пока не надоест. Потом… хрусть.
Ремарк оставил ей пару кредиток. Информация стоила дороже. Он подошел к месту, где обычно останавливалось такси Майлза. На мокром асфальте, под фонарным столбом, кто-то нацарапал баллончиком: «ЗДЕСЬ ВРЕМЯ ПЛАЧЕТ». Рядом – крошечная, истертая игрушечная туфелька. Синяя пластиковая. Он поднял ее. Она была ледяной.
Часть III: Погружение в Петлю
Вечер. 21:50. Машина Майлза с Ремарком на заднем сиденье подъехала к роковому перекрестку. Дождь хлестал по крыше, превращая мир за стеклами в абстракцию Кандинского из воды и света. Майлз сидел, сжавшись в комок нервов, руки мертвой хваткой вцепились в руль, белые костяшки выделялись на фоне кожи. Его дыхание было частым, поверхностным, как у загнанного зверя. Он не сводил глаз с электронных часов на приборной панели. Цифры менялись с жуткой неотвратимостью: 21:55… 21:58… 22:00…
Ремарк ощущал нарастающее давление, физическое и метафизическое. Воздух в салоне стал тяжелым, вязким, как сироп. Дышать стало труднее. Звуки – стук дождя, гул двигателя, шум города – приглушились, исказились, словно доносясь из-под толстого слоя воды. Запахи ослабели, остался только металлический привкус озона на языке. Кисть в его кармане заныла пронзительным холодком, заставив Ремарка вздрогнуть. Он достал ее, развернув тряпку. Мерцающая капля краски вспыхнула ослепительно, ее ядовито-зеленые искры заплясали, отбрасывая призрачные блики на потолок салона. Цвет стал невыносимо насыщенным, пульсирующим жизнью в этом умирающем пространстве.
22:05. Мир за окном начал сходить с ума. Фары встречных машин мерцали хаотично, как дешевая гирлянда. Движение стало рваным, прерывистым. Машины телепортировались на несколько метров вперед, исчезали, появлялись снова. Пешеходы на тротуарах двигались рывками, как в старом немом кино с пропущенными кадрами. Их лица были размыты, лишены деталей, как незаконченные глиняные маски.
22:15. Давление достигло невыносимого пика. Ремарка вдавливало в сиденье. Голова гудела. Дождь за окном замедлился до черепашьей скорости. Капли зависали в воздухе, сверкая в свете фонарей и фар, как миллионы крошечных алмазов, подвешенных на невидимых нитях времени. Звук двигателя превратился в низкий, протяжный, скорбный стон, затихающий на последней ноте.
22:17.
Машина Майлза резко дернулась, будто наехав на невидимый бугор, и замерла посреди пустынного перекрестка. Мотор захлебнулся и умер. Дворники застыли на полпути, превратившись в скелеты птиц на проводах. Тишина. Абсолютная, гробовая, давящая. Даже дождь, казалось, застыл. Капли висели в воздухе, неподвижные, сверкающие ловушками. Весь мир замер в предсмертном ожидании.
Майлз застыл, уставившись вперед, через лобовое стекло. Его лицо было искажено смесью первобытного ужаса и… тоски, глубокой, как океанская впадина. Ремарк последовал его взгляду.
На углу, под мерцающим, будто мигающим сквозь сон знаком автобусной остановки, стояла фигура. Невысокая, хрупкая, в синем плащике с капюшоном, натянутым на голову. Капюшон скрывал лицо, но Ремарк узнал ее. По фотографии Лоры, которую Майлз показывал ему со слезами бессилия. По тому, как Майлз вздрогнул всем телом, издав стон, похожий на предсмертный хрип. Это была Лиза. Или то, что Хронос оставил от нее в этой временной ловушке.
Она не была призраком в классическом смысле. Она была… артефактом искаженного времени. Размытой. Как изображение на пленке, засвеченной радиацией. Контуры дрожали, плыли, расползались по краям. Лица под капюшоном не было видно, только смутное, светящееся изнутри пятно тумана. Но от нее исходило… ощущение. Ощущение детской незащищенности, заброшенности и глубокой, невыразимой печали, пронизывающей до костей. Она стояла, слегка раскачиваясь, как будто под невидимый ветер, дующий из безвременья.
– Лиза… – простонал Майлз. Его голос сорвался в шепот, полный щемящей нежности и безумия. Он дернул ручку двери. Замок скрипнул, но не поддался. Он дернул сильнее, вложив в движение всю ярость отчаяния. Щелчок. Скоба сломалась. Дверь открылась.
Холод. Ледяной, пронизывающий до костей, выжигающий душу холод хлынул в салон. Не холод воздуха, а холод абсолютного нуля, пустоты, небытия, антижизни. Майлз вывалился на мокрый асфальт, спотыкаясь о собственные ноги, и побежал к фигуре. Его крик разорвал мертвую тишину:
– Лиза! Доченька! Я здесь! Папа здесь! Я вижу тебя!
Фигура не реагировала. Она продолжала раскачиваться с жуткой, механической регулярностью. Майлз подбежал вплотную, его рука, дрожащая, протянулась, чтобы коснуться плеча под синим плащиком…
Его пальцы прошли сквозь нее.
Лиза расплылась, как дымка от сигареты на ветру. На мгновение, в вспышке боли и гнева, Ремарку показалось, что он увидел искаженное от ужаса и надежды лицо девочки, запертой за невидимым, кристальным барьером. Глаза – широкие, полные слез. Губы – шепчущие: «Папа?» Потом фигура собралась снова, но уже метрах в пяти дальше, под другим фонарем, свет которого был призрачно тусклым. Все так же размытая, все так же безучастно раскачивающаяся. Приманка в ловушке.
Майлз зарыдал. Громко, надрывно, как раненый медведь в капкане. Он упал на колени посреди перекрестка, среди застывших в воздухе алмазных слез дождя, и бил кулаками по мокрому асфальту, выбивая ритм своего отчаяния.
– Верните ее! Боже, черт вас побери, ВЕРНИТЕ ЕЕ! Я все отдал! ВСЕ! Музыку! Душу! Заберите назад! Отдайте мне мою девочку! ОТДАЙТЕ!
Ремарк вышел из машины. Холод обжег ему лицо, схватил за горло. Он подошел к Майлзу, опустился на корточки, положил руку на его дрожащее, сведенное судорогой плечо. Кисть в другой руке пылала ледяным, ядовито-зеленым огнем, ее мерцание бросало пляшущие тени на искривленное болью лицо таксиста и на застывшие капли вокруг.
– Это не она, Майлз, – сказал Ремарк тихо, но с железной твердостью, заглушая рыдания. – Это эхо. Эхо твоей боли. Твоего горя. Твоего долга перед Хроносом. Они его закольцевали. Как петлю на шее. Как вечный саундтрек к твоему аду.
Майлз поднял заплаканное, искаженное гримасой лицо. Слезы замерзали у него на щеках.
– Но она… она смотрит… Она знает… что я здесь… – он всхлипнул, судорожно. – Каждую ночь… Она приходит… И я не могу… не могу дотронуться… обнять… – Его голос сорвался. – Это… пытка. Хуже ада.
Ремарк посмотрел на размытый, мерцающий силуэт Лизы. На кисть в своей руке. Мерцающая краска пульсировала в такт его собственному, яростно стучащему сердцу. Безумная идея. Опасная. Возможно, самоубийственная. Но единственная.
– Может, не нужно дотрагиваться, – прошептал Ремарк, его голос звучал хрипло, но с внезапной уверенностью. – Может, нужно… услышать. Услышать ту боль, которую они не смогли украсть. И дать услышать ей. Дать ей знать, что ты здесь. По-настоящему. Не тень. Не эхо. Ты.
Часть IV: Реквием на Разбитом Барабане
Ремарк вернулся в машину. Майлз, покорный, как загнанная лошадь, последовал за ним. Он смотрел на Ремарка с немым вопросом, смешанным с последней, тлеющей искоркой надежды.
– У тебя в багажнике… барабан? – спросил Ремарк, его взгляд был прикован к размытому силуэту за стеклом.
Майлз кивнул, не в силах говорить. Его горло сжал спазм.
– Принеси его. Сюда. На перекресток. Сейчас.
Майлз выполнил механически. Он открыл багажник, заваленный хламом отчаяния, и достал старый, потрепанный, но когда-то любимый снейр-барабан на стойке. Пыль стряхнулась с пластика под замерзшими каплями. Он установил его посреди алмазной ловушки, перед капотом такси. Его руки дрожали, как в лихорадке, когда он взял палочки. Он посмотрел на них, как на орудия пытки, на вериги.
– Я… не могу, – прохрипел он, голос сорвался. – Они забрали… Ритм. Музыку. Все… что было мной. Я… пустой. Как выпотрошенная рыба. Бить… нечем.
– Не музыку, – поправил Ремарк, подходя к барабану. Кисть в его руке горела ледяным огнем, зеленые искры прыгали по щетине. – Они забрали импровизацию. Машину. Формулу. Автопилот гения. Но не память. Не боль. Не любовь. Не ярость. – Он протянул Майлзу одну палочку. – Бей. Не в ритм. Забудь про ритм. Бей в боль. В тоску. В ярость на них. В ярость на себя. В ту любовь, которую они не смогли украсть, потому что она – не товар. В то, что делает это эхо реальным. В то, что прорвется сквозь их чертову петлю!
Ремарк поднял кисть. Мерцающая краска на кончике вспыхнула ослепительно, осветив застывшие капли, тени, размытый силуэт Лизы жутким, фосфоресцирующим светом. Он ткнул кистью в воздух, в сторону призрачной фигуры. Не касаясь. Рисуя в пространстве. Он вел кончиком щетины, выписывая не символы, а энергию. Энергию непроданного искусства Лео. Энергию бунта. Энергию жизни, которую Хронос стремился контролировать, но не мог понять.
Майлз взглянул на призрачную фигуру дочери. На палочку в руке. Что-то надломилось внутри него. Года подавленной агонии, бессилия, гнева, самоуничижения – все прорвалось плотиной. Он взмахнул палочкой, вложив в движение всю мощь отчаяния, и ударил по пластику снейра.
Звук был дисгармоничным, рваным, уродливым. Как предсмертный хрип. Как крик рождающегося чудовища. Ничего общего с музыкой, которую он когда-то творил. Но он был искренним. Человеческим. Следом – еще удар. И еще. Беспорядочные, яростные, полные неистовой энергии удары. Майлз кричал, завывал, выкрикивал бессвязные слова, бил по барабану, как по броне Хронос-Тауэр, по лицу Анастасии Вейл, по своему собственному предательству. Он выбивал реквием по украденной жизни.
Ремарк водил кистью по воздуху. Мерцающая краска тянулась за ней, оставляя в пространстве светящийся, пульсирующий шлейф. Он не рисовал ничего конкретного. Он выпускал энергию кисти, прожигал дыру в ткани петли времени. Он создавал помеху. Аномалию внутри аномалии. Бунт внутри тюрьмы.
Фигура Лизы задергалась. Контуры стали четче, проступили детали плаща, капюшона, потом снова размылись, поплыли. Из размытости на мгновение проступило лицо – испуганное, растерянное, но узнающее. Настоящее. Майлз увидел это. Его удары стали еще яростнее, безумнее. Он бил и плакал, и кричал ее имя, вопил слова любви и покаяния.
– ЛИЗА! Я ЗДЕСЬ! ПАПА ЗДЕСЬ! СЛЫШИШЬ МЕНЯ?! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРОСТИ МЕНЯ! ПРОСТИ! ЛЮБЛЮ!
Светящийся след от кисти Ремарка окутал фигуру, сплелся вокруг нее, как сеть из чистой энергии. Размытая Лиз вдруг стала четкой. На одно, драгоценное мгновение. Совсем реальной. Девочка в синем плащике. Большие, испуганные, но живые глаза. Она повернула голову, посмотрела прямо на Майлза. Узнала. Ее губы шевельнулись, и сквозь стеклянный барьер тиканья донесся тонкий, как паутинка, голос:
– Па… па…?
И тут все рухнуло.
Давление схлопнулось с глухим ударом, отбросившим Ремарка назад. Застывшие капли дождя рухнули вниз, как град из алмазов. Звуки взорвались – грохот обрушившегося ливня, рев внезапно ожившего двигателя такси за спиной Ремарка, визг тормозов приближающейся фуры, водитель которой, вырвавшись из петли, увидел неподвижное такси и кричащего человека посреди перекрестка слишком поздно. Свет от кисти погас, оставив после себя фиолетовое послесвечение на сетчатке.
Лиза растаяла. Не размылась. Исчезла без следа. Как будто ее никогда не было. Остался только запах озона и детской присыпки, мгновенно смытый дождем.
Майлз замер с поднятой палочкой. Его крик оборвался. Он смотрел на пустое место под фонарем. В его глазах было невыносимое понимание. Облегчение? От того, что увидел ее настоящей? Отчаяние? От того, что потерял снова? Освобождение? Ремарк не мог разобрать. Он видел только, как что-то окончательно ломается и угасает в глубине этих глаз.
Фура проревела мимо, окатив их грязной, ледяной волной с асфальта. Резкий сигнал. Хриплые крики испуганного водителя. Мир вернулся. Жестокий, громкий, мокрый, равнодушный.
Майлз медленно, очень медленно, опустил палочку. Она со звоном упала на мокрый асфальт. Он повернулся к Ремарку. На его груди, поверх мокрой формы, висел маленький серебряный медальон в форме ноты. Он сорвал его. Цепочка тонко, жалобно звякнула. Он сжал медальон в кулаке, потом разжал ладонь и протянул Ремарку. Медальон был теплым.
– Возьми, – прохрипел Майлз. Его голос был пустым, как выпотрошенный орех. – Она носила… В больнице… Держала… пока… засыпала… – Он не договорил. Сунул медальон в руку Ремарка. – Он… теплый. Иногда. Когда… она рядом. Когда эхо сильнее. – Он посмотрел на пустой угол еще раз. Глубокий, окончательный, прощальный взгляд. – Спасибо. За… секунду. За настоящее лицо.
Потом он развернулся, сел в свое такси, желтое, как предсмертная желтуха или предупреждающий знак, завел мотор. Он не посмотрел на Ремарка. Не посмотрел на барабан, брошенный посреди перекрестка. Просто тронул с места и растворился в стене дождя и ночи. Навсегда. Увозя с собой разбитое сердце и последние крупицы того, кем он был.