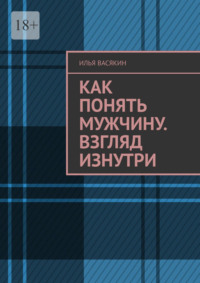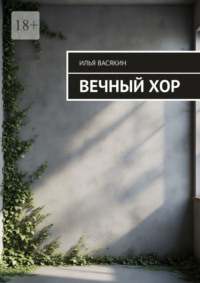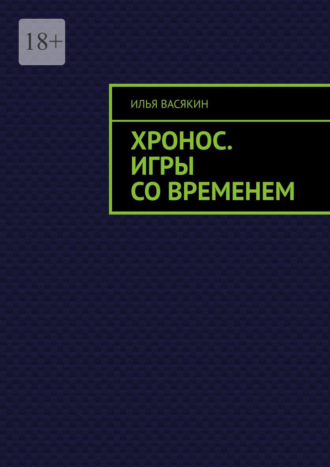
Полная версия
Хронос. Игры со временем

Хронос. Игры со временем
Илья Васякин
© Илья Васякин, 2025
ISBN 978-5-0067-5163-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ: ЭХО ИСТЁКШЕЙ МИНУТЫ
Пролог: Город, Задыхающийся во Времени
Лос-Анджелес не спал. Он задыхался. Дождь, не падающий, а сочащийся из самого нутра города, как гной из инфицированной раны, заливал улицы. Он был липким, холодным, пахнущим озоном, от разрядов невидимых машин, бензиновой тоской и затхлостью бетонных гробниц. Неоновые вывески – кроваво-красные, ядовито-зеленые, мертвенно-голубые – плавились в мокром асфальте, их отражения тянулись вниз, как души утопленников. Где-то в туманной дали сирена выла протяжно, безнадежно, словно предупреждая о конце, который давно уже наступил, просто никто не осмеливался признать это.
И над этим сырым, пульсирующим кошмаром, над низкими, покоробившимися от времени и отчаяния зданиями Даунтауна, высился Он. Хронос-Тауэр.
Черный обелиск, вонзившийся в брюхо низкого неба, как стилет в подреберье. Семьдесят этажей обсидианового стекла, не отражающего, а поглощающего свет целиком, превращая день в вечные сумерки у своего подножия. Ни карнизов, ни украшений – только холодная, подавляющая геометрия, нарушаемая ритмичными рядами вентиляционных решеток, из которых сочился слабый, вибрирующий гул низкой частоты, ощущаемый больше костями, чем ушами. На высоте птичьего полета стены слегка искривлялись, будто пространство не выдерживало чудовищной массы запертого внутри времени или искажалось его давлением. Говорили, что на верхних этажах нет окон. Там, в абсолютной, немыслимой темноте, обитало само Время. Или то, что им торговало. Или то, что им питалось.
Часть I: Долг
ЛЕО КАРВЕР стоял перед треснувшим по диагонали зеркалом в своей конуре-студии над вьетнамской забегаловкой в Чайнатауне. Воздух был густ, как бульон, от запахов скипидара, дешевого лака, подгнивших мандаринов и вечного подвального сырости. Дрожащими пальцами, на которых засохли коркообразные, как запекшаяся кровь, пятна ультрамарина и охры, он поправлял дешевый, мятый галстук на потрепанном смокинге, купленном когда-то в секонд-хенде для единственного, провального вернисажа. Ткань пахла пылью и чужим потом. Завтра – его триумф. Персональная выставка в MoMA. Мечта всей его жалкой, пропитанной дешевым виски, краской и неудачами жизни. Он должен был чувствовать эйфорию, лихорадочное возбуждение, дрожь восторга в кончиках пальцев. Вместо этого – лишь свинцовая тяжесть в желудке, пустота за грудиной и навязчивое, унизительное желание считать морщины на своей щеке, водить по ним подушечкой пальца, ощущая их непривычную глубину и остроту кромок, как канавки на старом грампластинке, заигранной до дыр.
Каждая морщина – ножевой укол по самолюбию. Углубление у губ, превратившееся в складку отчаяния. Веер у глаз, лучистый, как трещины на фарфоровой маске. Две резкие борозды меж бровей, сведенных в постоянную гримасу боли. Они появились не просто быстро – они выросли, как ядовитые грибы за одну ночь, будто время внутри него спешило, спотыкаясь, к какому-то неведомому финишу.
– Ты выглядишь… выжатым досуха, Лео, – произнес Голос. Исходил он не из воздуха, а из самой трещины в зеркале, зловеще черневшей на фоне его отражения. Звучал почти как его собственный, но… глуше, старше, с отчетливым металлическим призвуком, будто фильтрованный через ржавые шестерни карманных часов, зарытых в могиле.
Лео вздрогнул, шершавая, холодная керамика раковины впилась в ладони. В горле пересохло.
– Это… ты устал, – прохрипел он, пытаясь оторвать взгляд от слишком желтых, как пергамент, белков глаз в отражении. От зрачков, казавшихся мутными и безжизненными, как у дохлой рыбы.
Тень усмешки тронула губы Отражения, обнажив слишком длинные, чуть потемневшие у корней зубы, будто тронутые кариесом времени.
– Нет, Лео. Это ты. Ты израсходован. Ты… просрочен. Как консервы на свалке. Выбрось себя.
В памяти всплыл документ, всплыл, как утопленник. Тяжелая, пергаментная, неестественно гладкая бумага с водяными знаками в виде переплетенных часовых стрелок, пожирающих свои хвосты в вечном, бессмысленном круге. Текст, отпечатанный мелким, бездушным шрифтом, который резал глаза, оставлял ощущение песка под веками:
> ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №7H-Χρόνος
> Услуга: Предоставление Кредита Временных Ресурсов (10 (Десять) календарных лет).
> Обеспечение: Эксклюзивные права на Творческий Потенциал (Живопись) Клиента. Включая все производные, воспоминания процесса и эмоциональный резонанс, связанный с актом творения.
> Условие возврата: Достижение Клиентом статуса Международно Признанного Мастера (Критерий: Персональная выставка в MoMA, Нью-Йорк, средний балл критиков не ниже 8.7 по шкале Хронометра).
> Просрочка: Автоматическое изъятие Эквивалентной Временной Единицы из Биологического Ресурса Клиента с применением коэффициента ускорения, определяемого Актуарием Хроноса.
Подпись внизу – его собственная, но какая-то жидкая, растекающаяся, как чернильная клякса, похожая на паучью сеть, сплетенную дрожащей, предательской рукой. Он продал десятилетие своей жизни. И не только жизни. Продал муки творчества, пот, сомнения, ярость – саму плоть искусства. За глоток славы, за золотую клетку признания. И теперь слава пришла. А с ней – этот… внутренний распад, ощущение вывернутого наизнанку мешка с костями.
Часть II: Триумф Пустоты
Шум ливня за окном такси сменился навязчивым гулким гулом – звук сотен голосов, сливающихся в один бессмысленный, тревожный рокот. Лео вышел под черный зонт швейцара и ступил под безупречно белый свод галереи «Вертикаль». Здание, приземистое и широкое, казалось жалким придатком к Хронос-Тауэр, вздымавшемуся прямо за ним, как черный бог, взирающий на свои владения. Мраморный пол под ногами леденил ступни даже через тонкую кожу туфель, боль пронзала кости. Воздух был стерилен, убийственно чист, пропитан запахом дорогих духов (холодный ирис, металл и что-то сладковато-трупное, как формалин), шампанского и… чего-то еще. Слабой, едва уловимой, но въедливой нотой озона и статики, как после близкого удара молнии. На стенах, под безжалостными, хирургическими софитами, пылали его картины. Его… и не его. Чужие шедевры, рожденные в его ателье Хроносом.
«Морская Бездна VII» – волны, застывшие в момент удара о скалы, превратившиеся в миллионы острых, смертоносных осколков стекла, готовых пронзить зрителя. Если приглядеться, в бликах угадывались искаженные кричащие лица – его собственное, умноженное на сотни. «Лес Шепчущих Столпов» – деревья-монолиты с ветвями, скрученными в тщетные мольбы, с корнями, похожими на сплетения полуразложившихся тел. Земля у их подножия была неестественно гладкой и влажной, как кожа новорожденного, что вызывало тошнотворное отвращение. «Толпа на Площади Сумерек» – сотни лиц, лишенных глазниц, с ртами, открытыми в беззвучном крике вечного ужаса. Фоном служили четкие, безжалостные очертания знакомого черного небоскреба, вписанные в каждый зрачок отсутствующих глаз. Шедевры. Критики в черном, жужжа пчелиным роем, шептали: «Гойя, переродившийся в цифровую эпоху!», «Экзистенциальный витраж распада!», «Хронос открыл нам нового пророка бездны!». Лео смотрел на них и не помнил. Не помнил ни одного мазка, ни одной мучительной, потной ночи у мольберта, когда краска смешивалась со слезами отчаяния, ни вспышки вдохновения, дарившей краткий миг забытья. Только пустоту. И леденящий холод в костях, проникающий до самого мозга. Как будто кто-то выскоблил ложечкой эти моменты из его черепа, оставив лишь гладкую, полированную кость воспоминания о желании славы.
К нему скользнула, словно призрак, материализовавшийся из дыма сигар и световых бликов, Анастасия Вейл. Ее рыжие волосы, уложенные в сложную, архитектурную башню из локонов, пылали, как единственное живое пламя в этом ледяном царстве смерти. Платье цвета жидкой ртути обволакивало ее, переливаясь при каждом движении, создавая иллюзию текучести, нечеловеческой гибкости, словно под тканью не было костей, только ртуть. Ее пальцы, когда она легонько коснулась его руки выше локтя, были холодны, как металл сосуда Дьюара с жидким азотом, обжигающе холодны.
– Поздравляю, Лео, – ее голос был бархатистым, но в нем звенела стальная струна натянутой до предела струны виолончели, готовой лопнуть. – Вы достигли бессмертия. Ваше имя теперь вписано в пантеон. Навеки. Нестираемо.
– Что… что вы вынули из меня? – выдохнул он, ощущая, как дрожь пробирается от ее прикосновения в самое нутро, к спинному мозгу, заставляя позвонки сжиматься от холода. Его взгляд упал на ее глаза. В глубине темных, казалось, бездонных зрачков, на мгновение, мелькнул крошечный, ярко-зеленый циферблат, отсчитавший одну секунду с едва слышным, но отчетливым щелчком-уколом.
– Мы экстрагировали балласт, – она улыбнулась, и в этой улыбке не было тепла, только полированный блеск хорошо отлаженного механизма. – Муки творчества, сомнения, пот… всю грязь процесса. Мы оставили вам только чистый бриллиант признания. Сияющий. Невесомый. Вечный. Разве не элегантно? Искусство без страдания. Слава без цены. – Она сделала легкий жест рукой, рукой, двигавшейся с чуть заметной, механической точностью, в сторону блистающих картин. – Ваш дар теперь принадлежит вечности. А боль… боль была лишь топливом для него. Ненужным шлаком.
Она растворилась в толпе, как капля ртути в трещине мрамора, оставив после себя шлейф дорогого, ледяного аромата («Хронос №5» – аромат власти и вечности, гласили сплетни) и ощущение глубокой, бездонной пропасти под ногами. Лео остался один перед самой большой картиной в зале, висевшей на почетном месте, прямо напротив входа: «Автопортрет с Истекшим Сроком». На холсте был он. Но не сегодняшний. На десять лет старше. Морщины, как тектонические разломы на высохшей планете, седина, как пепел после пожарища на висках, глаза – два потухших угля в пепле угасшего костра жизни. И выражение… невыразимая усталость всего сущего, тяжесть вечности, вдавленная в плечи, в каждый мускул лица. Это был портрет не человека, а исчерпанного ресурса.
Часть III: Пробуждение в Склепе
Ледяное прикосновение Анастасии въелось в кости, как ржавчина, разъедая изнутри. Лео проснулся в пентхаусе на верхнем этаже роскошного, но бездушно-пустого, как склеп, кондоминиума – еще одном «подарке» Хроноса. Тишина была абсолютной, гнетущей, как вакуум. Голова раскалывалась, будто по ней били свинцовой болванкой, каждый удар пульса отдавался в висках гулкой болью. Рот пересох, язык прилип к небу, шершавый, как наждак. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь щель тяжелых, свинцово-серых, светонепроницаемых штор, резал глаза, как осколки стекла. На хромированной тумбочке рядом лежала газета, развернутая на рецензии: «КАРВЕР: ГЕНИЙ, ВЫРВАННЫЙ ИЗ БЕЗДНЫ! МОМА ПЛАКАЛА!». Рядом валялся пустой флакон снотворного «Хронос-Сомнус» – он не помнил, чтобы принимал его. Крышка была откручена с нечеловеческой силой, пластмасса треснула, как скорлупа яйца.
Он сполз с огромной кровати, костлявые колени щелкнули громко, болезненно. Побрел в ванную, волоча ноги, как каторжник. Мрамор, хром, огромное, безжалостно чистое, как скальпель, зеркало во всю стену. Он поднял голову, преодолевая спазм в шее, хруст позвонков.
Отражение старело. Стремительно. Не по дням, а по часам. За ночь.
Морщины, которые вчера были лишь глубокими тенями, сегодня стали рельефными, как шрамы от когтей невидимого зверя. Серебристая нить седины у висков превратилась в широкую, грязно-белую проседь, захватившую уже половину головы, делая его похожим на старого скомороха. Кожа на шее обвисла складками, как мокрая холщовая ткань, болтаясь при каждом движении. Но хуже всего были глаза. Глубоко запавшие в фиолетово-черные впадины, похожие на синяки трупа, обведенные сине-фиолетовыми тенями, с потухшими, мутно-желтыми, как застоявшаяся моча, зрачками – глаза дряхлого старика, вставшего на пороге могилы и увидевшего там лишь пустоту. В них не было ни ужаса, ни даже удивления – только бездонная, апатичная усталость выжатого лимона, брошенного в угол.
– Это… невозможно… – Лео уперся костлявыми, покрытыми пятнами пигмента ладонями в холодную поверхность раковины, впиваясь взглядом в призрак в зеркале. Голос его скрипел, как несмазанная дверь в заброшенном доме. – Я… я же только… вчера? Вчера был вернисаж…
– Возможно, – голос Отражения был сухим шелестом опавших осенних листьев под сапогом могильщика. – Ты взял в долг, Лео. Долг надо возвращать. С процентами. Компаундированными. Проценты на проценты. Хронос не прощает просрочек.
В дверь громко, настойчиво постучали. Три резких, отрывистых удара, как выстрелы из стартового пистолета в тишине морга. Лео вздрогнул, оторвавшись от кошмара в зеркале, сердце бешено заколотилось, угрожая выпрыгнуть из иссохшей, хрупкой грудной клетки. Он накинул шелковый халат, ощущая, как его старые, ломкие кости ноют от холода ткани, и подошел к двери, волоча ноги, как побитая собака.
На пороге стоял человек в длинном, промокшем насквозь плаще цвета мокрого асфальта. Вода стекала с полей его шляпы, образуя темную, маслянистую лужу на дорогом, но бездушном паркете. Широкие поля отбрасывали глубокую тень на лицо, скрывая все, кроме жесткого рта с тонкими, бескровными, как бумажный порез, губами и массивного подбородка, покрытого седой, жесткой щетиной. От него пахло дождем, дешевым табаком «Lucky Strike», едва уловимым запахом пороха, старой крови и… одиночеством. Голос был низким, хриплым, будто перетертым гравием и выдержанным в бочке из-под самого дешевого виски.
– Карвер? – спросил незнакомец, не поднимая головы. Тень скрывала его глаза, но Лео почувствовал на себе тяжелый, оценивающий взгляд. – Меня зовут Ремарк. Я ищу людей. Людей, которые… слишком много, слишком бездумно задолжали Хроносу.
– Я… я все вернул! – выпалил Лео, инстинктивно делая шаг назад, чувствуя холодный, могильный сквозняк из коридора. – Слава, деньги, признание… Контракт исполнен! До последней запятой! Они получили свое!
– Не деньги, – Ремарк медленно, с театральной тягучестью обреченного, снял шляпу. Из тени выплыло изможденное, как у голодающего волка в последнюю зиму, лицо с острыми скулами и глубоким, уродливым шрамом, пересекавшим левый глаз и щеку, как молния по грозовому небу, оставившая глаз мутным и неподвижным, как у мертвой рыбы. Холодный, оценочный, циничный взгляд единственного целого глаза – серого, как дождевая туча над трущобами, полными отчаяния – скользнул по лицу Лео, задерживаясь на седине и глубине морщин, как на топографической карте его гибели. – Минуты. Часы. Годы. У них, Карвер, сложные, ебучие, ростовщические проценты. Очень. Они пожирают тебя изнутри. Сначала душу. Потом память. Потом плоть. Пока не останется… тень. Как у нее.
Он засунул руку во внутренний карман плаща, шурша мокрой, грубой тканью, и достал потрепанную на уголках, выцветшую от времени и слез фотографию. Протянул Лео. На снимке была молодая женщина, улыбающаяся на каком-то пляже, залитом солнцем, с бирюзовой водой позади. Но ее лицо… оно было странно размытым, не в фокусе, как будто смазанным резинкой или… стирающимся ластиком времени. Черты плавали, сливались в безликую маску. Только рыжие волосы и яркое бикини были четкими, неестественно яркими на фоне размытости.
– Кто это? – спросил Лео, чувствуя, как холодный пот выступил на спине под шелком халата, липкой пленкой.
– Моя… последняя надежда. Клиентка, – ответил Ремарк. Его голос стал еще тише, жестче, как натянутая до звона гитарная струна перед разрывом. – Звали Лора. Два года назад. Продала Хроносу пять лет. За красоту. Идеальную кожу. Сияние. Стала лицом «ХроноКосметикс». Месяц назад… ее лицо начало исчезать. Сначала на фотографиях – как здесь. Потом… в зеркалах. Стали отражаться пустые комнаты, кусок стены за ее спиной, но не она. Теперь… – он резко выдохнул, изо рта вырвалось облачко пара в холодном воздухе пентхауса. – Теперь я вижу только… тень. Туман. Размытое пятно света. Пустое место, где она стоит. Иногда слышу голос. Полный чистого, животного, нечеловеческого ужаса. Она просит помочь вспомнить, как выглядит солнце. Как пахнут цветы. Свое имя. Хронос стирает ее. По пикселю в час.
Лео машинально поднял взгляд на огромное, безжалостное зеркало в прихожей. Его Отражение стояло там. И улыбалось. Широкая, беззубая, зияющая чернотой гримаса. Десны – бледно-розовые, влажные, как у только что вскрытого трупа. В угасающих глазах – безумная, торжествующая насмешка победителя, забравшего все.
Часть IV: В Утробе Левиафана
Ледяной ужас, сковывавший Лео, сменился яростной, отчаянной злобой, горячей волной адреналина, смывающей дрожь. Он не слышал хриплого окрика Ремарка, не видел его протянутой руки. Он выскочил на улицу, едва натянув промокшие, неудобные туфли, не застегивая халат. Дождь хлестал его по лицу, соленые капли смешивались со жгучими, бессильными слезами гнева. Он бежал, спотыкаясь о мокрые, скользкие тротуарные плиты, к черному обелиску, к Хронос-Тауэр, к своей гибели или к ответу – он уже не знал. Его халат тяжело обвис, волосы слиплись на лбу, туфли хлюпали грязной, маслянистой водой. Он не чувствовал ничего, кроме жгучего, как серная кислота, желания добраться до них. До нее. Вырвать правду клещами. Увидеть страх в ее фарфоровых глазах.
Лобби Тауэра оглушило его немотой и пронизывающим до костей холодом. Гигантское пространство, выложенное полированным до зеркального, ледяного блеска черным камнем, который поглощал звуки шагов, свет ламп и последние крохи надежды. Воздух вибрировал от неслышного низкочастотного гула – биения огромного, механического сердца подземного левиафана, перемалывающего время. Единственным источником света были холодные синие неоновые линии навигации на полу, ведущие в никуда, и огромная световая инсталляция на дальней стене, мерцающая, как больная вена под кожей, белыми буквами:
«ВРЕМЯ – НЕ ДАННОСТЬ. ЭТО – УСЛУГА»
И под ней, уже знакомым ядовито-зеленым, пульсирующим в такт гулу светом:
«ХРОНОС: МЫ ДАЕМ ВАМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ИМЕЕТЕ. ПОКА ВЫ ЕЩЕ ЕСТЬ.»
Анастасия Вейл стояла посреди этого безмолвного храма Хроноса, как верховная жрица незримого бога-машины. Она ждала его. В руках – тонкий, угольно-черный, как крыло ворона, планшет, экран которого светился призрачным, ядовито-зеленым светом. Ее лицо было бесстрастной, идеальной маской из белого фарфора, без единой морщинки, без тени эмоций.
– Лео, – ее голос прозвучал слишком громко, искусственно четко в гнетущей тишине, разрезая ее, как алмазный стеклорез. – Какая неожиданная… честь. Вы должны быть на вершине мира. На пике славы. Наслаждаться плодами. Что вас привело сюда, в час вашего триумфа?
– Что вы сделали со мной?! – его крик разбился о каменные стены, не вызвав ни малейшего эха, словно звук умер, не родившись, поглощенный камнем. Он бросился к ней, цепкими, стариковскими, покрытыми пятнами пальцами схватил за плечи. Ткань ее строгого угольно-серого, как пепел, костюма была холодной и скользкой, как кожа змеи или мокрого гранита под пальцами, а тело под ней – невероятно твердым, негнущимся, лишенным тепла, неживым. – Смотри! Смотри на меня! Я… я разлагаюсь заживо! Сгниваю на ходу за сутки! Это… это ваша работа!
– Мы просто применили стандартный коэффициент ускорения для компенсации временного долга, – она даже не попыталась вырваться. Ее глаза, холодные и бездонные, как шахты лифтов, уходящих в пустоту вечности, смотрели на него без тени эмоций, как на неисправный прибор, подлежащий утилизации. – Ваше тело… оптимизирует ресурсы. Каждый час вашей нынешней славы, каждый миф о вашем гении, каждое упоминание в прессе… требует экспоненциальной физической платы. Энергии. Клеточного времени. Сжигает вас изнутри, как печь. Это математика долга. Чистая бухгалтерия времени.
– Остановите это! Немедленно! Я требую разорвать контракт! – он тряс ее, но она не шелохнулась, как каменная стела, лишь легкая, мерцающая рябь прошла по поверхности ее платья-ртути.
– Невозможно. – Она механически, без единого лишнего движения, подняла планшет. На экране пульсировала кроваво-красная линия, резко, почти вертикально уходящая вниз, как график падения камня. Под ней – цифры: 2 190 единиц (дни). – Контракт. Непреложен. Скрипт исполняется. Ваш временной долг. При текущем… обменном курсе, установленном Актуарием… – ее холодный, лишенный отпечатков пальцев, идеально гладкий палец коснулся экрана, и цифра сменилась на 30 (дни). – У вас осталось тридцать дней, Лео Карвер. Физического существования. Потом – нулевая точка. Полное истощение ресурса. Стирание из биологической памяти Вселенной. Вы станете… Лорой.
Лео выпустил ее. Его дрожащие, слабые ноги подкосились. Он рухнул на колени на ледяной, черный, как космос, отражающий лишь его жалкое подобие пол, захлебываясь собственным дыханием, которое стало хриплым, булькающим, как у тонущего. Перед ним, на стене из абсолютно черного, не отражающего, а поглощающего свет как черная дыра стекла, должно было быть его изображение. Но он видел только тьму. И лишь в воображении – дряхлого, седого старика с лицом-маской из морщин и потухшими глазами-щелями. Призрак из его же картины. Себя через месяц. Себя-призрака.
– Есть… альтернатива, – голос Анастасии прозвучал прямо над ним, мягкий, убедительный, как электронный голос автоответчика, предлагающего выгодную сделку на краю пропасти. Она наклонилась, и ее рыжие волосы, пахнущие озоном, металлом и чем-то древним, пыльным, как страницы запретной книги, коснулись его морщинистой, влажной от пота щеки. – Продайте еще десять лет. Прямо сейчас. Мы гарантируем… абсолютную, вневременную легенду. Ваши картины будут висеть в вечности, в специально созданной для них Темпоральной Галерее. А вы… обретете покой. Забвение. Это милосердно. Эффективно. Вы избежите… мук распада.
Снаружи, по гигантскому окну-стене, стекали широкие, медленные, как слезы каменного идола, потоки дождя. Они сливались, разбивались, рисовали абстрактные, мокрые узоры. Лео смотрел на них, пригвожденный к полу тяжестью откровения. Ему почудилось, что это струятся не капли воды, а миллионы крошечных песчинок. Песчинок его последних секунд. Песчинок, утекающих в бездонную пасть Хроноса, в его вечные песочные часы.
Часть V: Последний Мазок Правды
Он не помнил, как выбрался из утробы Башни, из каменных объятий левиафана. Как брел по затопленным улицам, не чувствуя холода дождя, не замечая проезжающих машин, гудков клаксонов, криков. Как нашел дорогу обратно в свою старую, пахнущую крысами, туберкулезом и дешевой лапшой студию в Чайнатауне. Дверь была не заперта. Здесь пахло настоящей краской, едким скипидаром, едкой плесенью и… жизнью. Грязной, горькой, неудавшейся, но своей. Не купленной. Он скинул мокрый, омерзительно дорогой, чужой халат, бросил его в угол, как окровавленную тряпку после убийства. Надел старую, пропитанную потом, вином, масляной краской и отчаянием до жесткости картона робу. Ткань грубо терла кожу, царапала – это было больно, неприятно и… честно. Подошел к единственному нетронутому мольберту, заваленному тюбиками, тряпками, папками с эскизами его прежней, никчемной жизни. Чистый холст, пыльный по краям. Краски в тюбиках, засохшие на горлышках, как запекшаяся кровь. Кисти в жестяной банке из-под кофе, щетина посеченная, жесткая, как проволока.
Он начал писать. Не шедевр для вечности. Не крик отчаяния для продажи. Портрет того, кем был до Хроноса. Пьяница. Неудачник. Человек с дрожащими руками и погасшим взглядом, но с искрой чего-то настоящего, некупленного, неотчуждаемого внутри. Себя. Настоящего. Каждый мазок был актом отчаяния и… освобождения. Возвращения. Бунта. Он вонзал кисть в краску, швырял ее на холст, растирал пальцами, царапал мастихином, плевал на поверхность, стирал тряпкой и снова лез в гущу. Коричневые, грязно-зеленые, землистые охры, грязные серые тона. Никакого ультрамарина безумия, киновари славы. Правда грязи. Правда поражения. Правда жизни, которую не смогли отнять до конца.
В дверь постучали. Не резко, как тогда утром, а глухо, устало, словно костяшками об дерево гроба, в который уже опустили покойника.
– Карвер? – голос Ремарка звучал хрипло, прерывисто, с одышкой из-за двери. – Они знают. Сканеры в Башне все видят. Твою ярость. Твой… бунт. Они идут. Сейчас. Тени уже на лестнице. Я слышал их шаги… Мерные. Как тиканье часов Судного дня. Выходи со мной… или исчезнешь здесь. Навсегда. Как Лора.
Лео не обернулся. Его кисть, дрожа теперь не от страха, а от ярости и странного, очищающего спокойствия, вывела последнюю деталь на потрепанном, но живом лице человека на холсте: глаза. Молодые. Усталые. Полные неугасшей, знакомой боли и… странного, горько-трезвого, почти просветленного понимания. Глаза, которые еще могли видеть правду. Глаза, которые не продал. Глаза, которые помнили запах скипидара и вкус дешевого вина, а не шампанского с презрением.