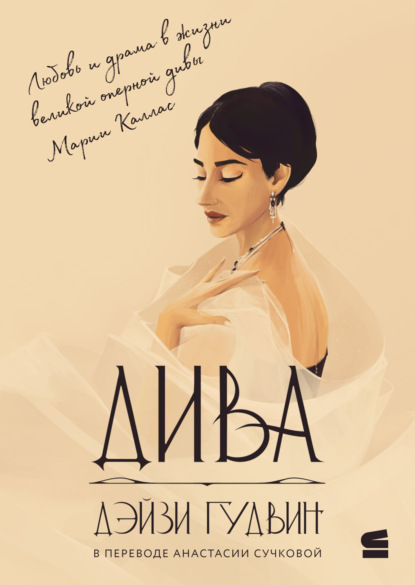Полная версия
Китаянка на картине
– Твои желания – закон, радость моя. А еще – стальную кастрюльку для каштанов и обязательно с дырочками, хорошо? Одну – чтобы печь на углях в камине.
Как устоять перед Мелисандой, когда у нее на лице едва уловимая тень одной из таких соблазнительных улыбок! Они так и сияют в блеске летнего солнца. Подозреваю, что она нарочно пользуется ими, приберегая для тех случаев, когда ей захочется меня покорить.
Я откладываю часы и обнимаю Мэл за талию. Она же, ликующая, бросает взгляд на картину, небрежно прислоненную к вольтеровскому креслу за старой швейной машинкой «Зингер» – ее серо-зеленый каркас из кованого железа.
– Гийом! Ты видел? – восклицает она. – Я знаю, где это! Я там была!
С ума сойти!
Слежу за ее восхищенным взглядом – он направлен на роскошное шелковое платье. Его примеряет молодая женщина.
– А платье с китайским воротничком. Какое оно необычное, такого анисового цвета! – Она в восторге ахает. – Вау. Да оно великолепно! – очарованно бросает она, требуя моего одобрения.
Мне знакомо это место…
Я хватаю необычную рамку, покрытую темной экзотической эссенцией. Чувствую, как подбородок Мелисанды прижимается к моему плечу.
Внезапно я ощущаю, как она напряглась.
– Смотри-ка, – восклицает она, уставив указательный палец прямо в героев картины и тщательно соблюдая аккуратность, чтобы не дотронуться до полотна. – Как будто это мы! Мы, в старости, – уточняет она, всматриваясь в них еще внимательнее. Ее глаза блестят. – Безумие какое-то!
Я приклеиваюсь к картине. И правда, не поспоришь – сходство изумительное.
И это при том, что ноги моей никогда не бывало в Азии!
Мэл просвещает меня: эта улица находится в Китае, точнее – в центре сказочного городка под названием Яншо, на берегах реки Ли.
Она признается мне, что, изучая язык, побывала там и беззаветно влюбилась в эти места. Добавляет, что ей там было так хорошо, что она оставалась там вплоть до дня возвращения во Францию.
Я рассеянно слушаю, погрузившись в собственные мысли, пристально вглядываясь в место, где, как мне кажется, я тоже уже бывал, и в эту пожилую пару, в которой черта за чертой узнаю нашу точную копию.
Она же, блуждая взором по картине или уносясь мыслью далеко отсюда, продолжает говорить, что часами просто любовалась лодками и безмятежно пасущимися бычками: они, по шею в изумрудной воде, лакомились речными водорослями. Что время там кажется остановившимся. Рассказывает мне, что жители чудесной провинции Гуанси так благодарны корморанам за то, что те помогают ловить много рыбы, что, стоит этим черным птицам состариться так, что больше они не в силах сами доставать добычу, оставляют им обильную пищу. А потом вливают в птичьи глотки полные стаканы рисовой водки. И верные пернатые угасают во сне. Вот так…
Я уже не слушаю.
– Мэл, часы!
Я слышу собственный крик.
Она теснее прижимается ко мне, а я так и стою, разинув рот.
– Что – часы?
– Его часы! Там, на полотне! На старике! Они такие же, как у меня! Те же, что на моем запястье! Нет! Такого не может быть! Я не понимаю, Мэл… ведь это единственный экземпляр. Я получил его в наследство от отца…
При воспоминании об отце у меня задрожал голос. Мелисанда ритмичными движениями гладит меня по спине, как будто убаюкивает, и я тут же успокаиваюсь. Мне не удается оторваться от того, что я вижу. Таких часов никто не носил – только мой папа и я. Я изучаю их, как в игре «найди семь отличий», памятной со школьных лет. Но никакой разницы в глаза не бросается.
– Хорошо бы лупу…
До меня доходит: я подумал вслух. И Мэл куда-то ушла.
Она разговаривает с мужчиной средних лет, с нездоровой кожей – на ней явные следы оспин – и наголо обритой головой, чтобы скрыть лысину. Он вырядился в потертые джинсы и майку с вырезом, обнажающим матросскую полувыцветшую татуировку на одном из многочисленных мускулов, приобретенных за время злоупотребления в спортивном зале. Такое тело должно весить немало.
Мелисанда показывает на меня пальцем.
– Сколько это? – спрашивает она у продавца, который подходит к ней ближе, растирая голый череп так, словно хочет высечь огонь.
Я снова ныряю в картину. Это что-то фантастическое.
Опять выпрямляюсь. Вижу, как Мэл открывает сумочку и протягивает ему деньги. Цену я не расслышал.
Я быстро появляюсь перед ними, зажав под мышкой раму, и наконец произношу:
– Здравствуйте, мсье! Вам известно, откуда она?
Торговец, расставив ноги, выпячивает мощный торс, отчего его фигура становится похожа на букву V, и хмуро качает головой.
Наконец он решается, поднимает брови, надувает щеки и признается:
– Ах… эта… да-да… уф… Честно сказать, и знать не хочу… ни малейшего понятия, мой мальчик.
Он берет деньги.
– Знаете, я ведь просто распродаю. Вот. Больше не нужно. Это чтобы помочь. А вопросов никаких я и не задаю… Если могу быть чем-то полезен…
Продолжая говорить, он одной рукой забирает картину, а другой массирует ряд некрасивых жировых валиков на затылке.
– А мазня эта, – и он пожимает плечами портового грузчика, – честно, даже не знаю… нет, правда… Но одно знаю точно: это стоит немного, потому что, скажу я вам, мой коллега-антиквар от нее отказался. Так-то вот!
Пока он упаковывает нашу покупку, мы молчим. Потом он бормочет с марсельским акцентом, будто режет слова ножом:
– А уж он-то разбирается, можете мне поверить! Клянусь тебе… Да уж. Вот у кого чутье так чутье, не упустит свое… Опытная бестия! Нюхом чует, где прикуп ночует, это уж я вам гарантирую, да-да, дамы-господа! И каждый раз хочет выманить у меня! Что ж, старается – а сам-то за медный грош удавится! Проклятье… людей не переделаешь.
Он быстро окидывает взором наши вежливые ужимки, протягивает мне пакет и продолжает так же фамильярно:
– Ах да. Что я… вот что. Я вспомнил тут, он сказал мне, что это азиатская картина, вьетнамская, что ли, думаю, ну вроде как стильная штучка, или, может, китайская, если не ошибаюсь, и еще – что это вроде как не подделка. Уф. Да, точно, теперь вспомнил. Мы всё шутили насчет прелестной куколки. Как он на нее запал-то! Так и сказал: топ-модель! Ишь ты, просто фанат, твою ж маманю, как мы хохотали! От души! А знаете, китаянка эта на переднем плане-то и впрямь стройняшка!
Он подхохатывает, и, когда мы уже уходим, а он дружески похлопывает меня по спине, у него вдруг гулко урчит в животе.
– Ого-о-о! Пока, молодежь, попутного ветра, в добрый час!
Я обвиваю левой рукой шею Мелисанды, ласкаю ее волосы и дышу их чувственным ароматом таитянской гардении, он околдовывает меня. И мы идем дальше, я держу картину под мышкой, преисполненный решимости прояснить, что значат эти волнующие совпадения. Я в душе посмеиваюсь – до того почти физически ощутимо возбуждение Мэл, вдруг обнаружившей такое сходство.
Она не идет, а скачет вприпрыжку, как козленок. Каблучки цокают с сухим стуком кастаньет. Импровизированный фламенко в сопровождении шепота листвы с солнечными брызгами.
О блинах забыли. Э-э, да что за беда – они по-любому и в подметки не годятся бретонским крепам моего детства. Особенно тем, какие я обожаю больше всего: хрустящим, с кружевными краями, а сверху четвертушки печеных яблочек, и щедро политым Salidou, а ведь это всего лишь божественная смесь карамели с подсоленным маслом.
Что ж, не повезло стремянке-этажерке: сегодня не ее день.
Мысленно я вспоминаю, где может находиться сейчас моя лупа. В ящике стола или на дне коробочки с инструментами…
Чувствую, как меня снедает живое нетерпение: хочу поскорее к нам.
Иду побыстрей.
Сен-Гилем-ле-Дезер
12 мая 2002 года
Мелисанда
Вернувшись в залитый солнцем дом, только что нами обставленный, я лихорадочно бегу к ноутбуку.
Быстро набираю на клавиатуре и нажимаю на автоматический поиск.
Яншо.
Кликаю на фотографии, потом открываю одну из выскочивших – да, в точности тот же вид, что и на картине художника. Вот он, во весь экран.
* * *Мне, южанке, ничего не стоило уговорить Гийома приехать сюда со мной. К моей великой радости, потребовалось всего несколько месяцев, чтобы он распрощался с Ванном. Не зря о бретонцах говорят, что они заядлые путешественники.
Я была в восторге от того, что привезла его в свои родные края. И вот однажды, прогуливаясь по чудесной средневековой деревушке, мы и набрели на домик с вывеской «Сдается».
Мы пошли по переправе Ангелов. Она вывела нас на мост Дьявола, построенный в XI веке. Он гордо высился над берегами, у подножия узких скалистых горловин, перекинутый через прозрачную речку, здесь совсем узенькую, с изумрудными бликами.
Мгновенная страсть. Мы неторопливо шли мимо низеньких старинных домов, ярусами нависавших друг над другом, с черепичными кровлями, покрытыми тяжелой патиной столетий. Наше будущее жилище ожидало нас – фасады, залитые южным солнцем, белые ставни и дверь, увитая колючником – это вид чертополоха, его золотой цветок обладает уникальной способностью предсказывать погоду: он закрывает лепестки, если дождь совсем близко.
Все казалось нам обольстительным: открытая веранда, кухня на свежем воздухе и яркая терракотовая плитка старинных времен, итальянский душ, выложенный крошечными переливавшимися квадратиками. В гостиной даже был камин! Садик окружали каменные стены – полузаросшие опунциями с невероятными бледно-желтыми цветками. Бесподобный вид на Замок Великана, нависавший над крутыми скалистыми откосами. Великолепно.
– И немного истории: легенда рассказывает, что один кровожадный исполин в древние времена жил на этих скалах, – рассказывает нам агент по недвижимости, призывая восхититься пейзажами.
– Обожаю мифы, – замечает Гийом, он благодарный слушатель.
– Тогда вам понравится! Так вот, этот грозный персонаж имел в жизни только одну забаву – и была ею хитрющая сорока. Она предупреждала его, если кто-нибудь осмеливался подступиться к его логову, но чаще всего тревога оказывалась ложной. В один прекрасный день доблестный воин по имени Гилем пришел помериться силами с тем, кто наводил на всю округу такой ужас. Его церберша подняла тревогу и застрекотала: «Берегись, Великан, Гилем уже в пути, берегись, Великан!» Злыдень не обратил никакого внимания на крики крылатой домашней канальи и был убит храбрым юношей, сбросившим его с самой высокой башни.
Захваченные историей, мы сразу же подписываем договор аренды.
* * *Гийом наклоняется взглянуть на то, что я ему показываю.
– На этом фото из Яншо виден переулок.
Он протягивает мне стакан холодного лимонада с листочками мяты, в нем позвякивают льдинки.
Я пробую, рот наполняется кисло-сладким вкусом. Громче всего звучит мятная нотка.
– М-м-м, чудесно, милый! Ты добавил капельку тростникового сахара, верно?
– Нет, ложечку гаригового меда. Я открыл баночку, которую нам принесли с той пасеки на озере… да как же его… я забыл. Но ты знаешь, что за озеро… А! Там еще такие красные пляжи. Не заметила? Сали…
– Салагу.
– Вот-вот!
– Ну конечно, это же продукция моей кузины Магелоны! Ты хорошо смешал?
И снова приподнимаю локоть, стараясь насладиться вкусом нектара.
– О-о-о… очень удачно.
Мы влюбленно улыбаемся друг другу и обмениваемся быстрым поцелуем. Губы у обоих влажные и прохладные.
Рассматриваем фотографию в ноутбуке. Улица почти не изменилась. Или разве что совсем чуть-чуть. Я внимательно смотрю то на экран, то на картину.
Нет, я, безусловно, ничуть не жалею о своей покупке: я люблю эту картину и за ее живописные достоинства, и за те чувства, какие она вызывает во мне.
Задерживаюсь взглядом на покосившихся хибарках, они рядком изображены на правой стороне полотна. Как же они прелестны!
– Видишь, вместо обычного жилья тех времен, когда крышу красили, они построили целый жилой комплекс, – замечает он – как-никак архитектор. – Ремесленные мастерские выглядят иначе. Не было ни этой мастерской по ремонту велосипедов, ни вон той ресторанной терраски…
* * *Я вспоминаю. Китай. Видения накатывают как волны.
Странные очертания закругленных горных вершин Гуйлинь, воздетых к небесам более чем в тысяче километров от Пекина. Пышная растительность. Резкая и яркая зелень рисовых полей, ярусами всходящих в бесконечность над Лунными горами. Хвойные и бамбуковые леса. Блюда, которые я пробовала в семье, происходящей из этнического меньшинства, в земле дун, – эти края ближе к Вьетнаму, чем к китайской столице.
Их сохранившееся поселение, уютно примостившееся на склоне утеса и свившее гнездо в ларце долины, окруженной головокружительной высоты косогорами, долго жило в уединении от мира. Жители здесь просты и беспечны, а гостеприимство развито необычайно – вместо приветствия они спрашивают: «Ты уже поел?»
И снова я вспоминаю ужин, который разделяла с ними в домике на сваях, крепко укорененном в почве с помощью длинных сосновых бревен. Мы устраивались у очага, скромно рассаживаясь на низеньких табуретках вокруг лакированного подноса. Чокались стаканчиками с рисовой водкой. Знак почтения. Рыба была вкуснейшая. Неповторимая. Маринованная и соленая, по всей видимости. А вместо гарнира – клейкий рис, завернутый в жареные банановые листья, и сладкие бататы – мы готовили их прямо на огне. В сухих пирожных было много пряностей.
Дети подбегали потрогать мои белокурые локоны и со смехом отбегали прочь, а мы спокойно пили Ю Ча – крепкий бодрящий чай, заваренный с маслом и затем прокипяченный с добавлением арахиса.
Мужчины в широких хлопчатобумажных синих штанах в тон курткам с воротничками-стойками выносили на солнце свежий рис. Меня поражал контраст ослепительной белизны злаков с одеждами цвета индиго. Старые женщины в традиционных костюмах, с морщинистыми лицами, с кожей, выдубленной жизнью на свежем воздухе, наблюдали за самыми юными девушками. Другие стирали белье в ручье.
На перилах у дверей домов подвешивали клетки с птицами.
На самом первом этаже, под жилыми комнатами – стойло для свиней, коров и домашних птиц. От жары едкий запах проникал наверх. Но как же иначе? Ведь в округе рыщут тигры и дикое зверье. Со скота нельзя спускать глаз!
На самом верху, на чердаке – корзины с новым урожаем риса, почти прозрачного. За жильем располагались крошечные дворики. Там хранились дрова и другие припасы. Оттуда лестница вела на кухни, доверху набитые ящиками со съестным: клубнями таро, жожоба, семенами лотоса или тыквы. Там, на переполненных полках, томились банки с толченым перцем, замаринованной свининой, сушеными грибами. За ними таились еще и горшки с пряностями и приправами, которых я не знала, и котелки – в таких кипятили воду.
А в довершение всего поселок окружала настоящая сельская местность, божественно прекрасная, с геометрически правильными полями обработанных земель и чайных садов – они выглядели как пейзаж, достойный самых прекрасных эстампов.
Я снова вижу, как иду по восхитительным «мостикам ветра и дождя» и не устаю от созерцания столетних колес. Они обеспечивали ирригацию, ритмично, глухо и монотонно перекачивая плескавшуюся воду. И я слышу мелодичные песни чудесного народа и ритмичные пляски играющих на лушэне…
«Слушай, маленькая сестренка, слушай, как этот инструмент помогает рису расти», – бормотали они мне на ушко.
И еще я отнюдь не забыла ни звяканья старинных медных колокольчиков пагоды, когда их раскачивает ветерок, ни нежного щебета соловья. Старейшина так возлюбил его, что никогда не расставался с ним. Он уносил его с собой, уходя в поля на заре…
* * *– Мэл? – шепчет Гийом, прерывая мои мечтания.
Я оборачиваюсь, меня слишком резко вернули издалека. У него в руках толстенная лупа.
– Ты как думаешь, это в какие времена нарисовали? – спрашивает он своим глубоким голосом, в котором слышится легкий бретонский акцент.
– Кажется, сравнительно давно, если приглядеться, видишь, тут маленькие трещинки. Спрошу у Лизы. Она наверняка сможет датировать точно, – отвечаю я, чуть касаясь ямочки в углу его рта. – А лупа что-нибудь новое тебе сообщила?
– Почти ничего. Часы те же самые. Это невероятно – отец убедил меня, что они существуют в единственном экземпляре.
На последних словах его голос повышается и замирает. Он смотрит на меня невидящим взором, растерянный, сжав зубы. Покусывает губы, скрывая недовольную и хмурую гримасу. Я читаю на его лице бесконечное разочарование. И рану. Его обманули, нарассказывали всякого вздора.
Ставлю стакан, который до этого рассеянно вертела в руках. Крепко обнимаю Гийома, его внезапная ранимость волнует меня, и я убаюкиваю его. На его волосах, которые я взъерошиваю, шелковистых как у ребенка, играют косые лучи средиземноморского солнца – они озаряют его нежные прожилки.
Он вздыхает, стараясь прийти в себя.
Внезапно выпрямляется, высвобождается и встает. И всем телом рванувшись вперед, вскакивает с яростью:
– Мелисанда, больше всего на свете папа ненавидел ложь! Я не могу поверить, что он солгал мне. Он не мог просто так взять и сказать не подумав. Уверяю тебя! Да к тому же мне… А с каким гордым видом он застегнул свои часы у меня на запястье.
Он теперь быстро ходит туда-сюда, не в силах спокойно усесться, его собственная агрессивность очень печалит его самого, и вот он мерит шагами гостиную, точно запертый в клетку медведь, подбрасывая лупу в руке.
Наконец он поворачивается к окну, застывая в раздумье, – что-то просчитывает про себя.
Тут возможны две гипотезы: либо его отца околпачили, либо часы Гийома и часы с картины действительно одни и те же. Он в таком замешательстве, что я решаю все-таки выбрать первый вариант. Второй слишком маловероятен…
Стараясь утешить его, я рассуждаю:
– Тогда нам просто наврал продавец.
– Несомненно.
Он вздыхает.
– Папа наверняка сейчас переворачивается в гробу.
– Завтра же утром позвоню Лизе.
Гийом вяло качает головой. Глаза подернуты дымкой, взгляд прикован к шестиугольной плитке пола. Погруженный в глубины своей души, он сражается с мыслями, знать о которых не позволено никому. Только что в потаенных глубинах открылась брешь.
Подойдя к нему и пытаясь его успокоить, чуть-чуть погладив его с выражением немого понимания, я и сама вдруг вижу в нем грустного маленького мальчика, затронувшего мою душу до самых ее глубин.
И я делаю в душе зарубку: вот и будет случай узнать, что нового у Заз.
* * *С Лизой Куле мы знакомы со студенческой скамьи.
Обе мы тусовались в компании прожигателей жизни. А спустя месяцы и после взаимных признаний стали подругами.
Заз… Потрясающая личность. В мир взрослых мы входили рука об руку, этап за этапом, сами этого даже не заметив. У нас с ней постепенно сложились уникальные отношения, да так удачно, что в конце концов мы прекрасно узнали друг друга и просто пошли дальше вместе. Для меня она незаменима. Наши общие черты и наши различия так гармонично уравновешиваются, что мы чудесно дополняем друг друга.
Ее образ сейчас у меня пред глазами. Образ прекрасной женщины, какой она и стала теперь, высокой и стройной, умеющей держать себя, очень элегантной – с таким природным изяществом, что ей идет все, что она ни наденет. Жаль, что она не слишком высоко себя ценит. В матово-бледном лице, чуть-чуть подкрашенном, окруженном пышной гривой темных кудрей, каскадом падающих ей на плечи, до сих пор проскальзывает что-то детское. Ей очень идут веснушки, придающие ей своенравный вид. В ней есть уж-не-знаю-что-именно, но нежное и сильное, от нее исходит позитивная и теплая аура.
Она – та, на кого я могу рассчитывать и в трудный, и в добрый час, та, что утешает меня, развлекает, советует, поддерживает, ободряет, когда меня терзает искушение отступить… В общем и целом – она верит в меня. И это взаимно.
Это шанс.
Между мной и Лизой столько общего, столько воспоминаний и общего веселья до упаду! Помню, как в университетской столовой мы меняли ее десерт на мою закуску и наоборот. Взбитые сливки – она сперва поддевала их ложечкой, а потом резким движением опрокидывала в мою тарелку из своей, а меня даже не спрашивала. Диски и книги, понравившиеся нам обеим, – мы передавали их друг другу…
Вереница счастливых мгновений – но, с другой стороны, и у нее немало проблем: сомнения, выбор, решения, неудачи и потребность в утешении и поддержке, заставлявшая нас уединяться в моей или ее комнате университетского городка по соседству с кампусом.
Мы ужинали на скорую руку, сидя прямо на полу, подложив под спины подушки. Обжирались хлебом с выдержанным сыром. И заканчивали эти пиры, грызя шоколад и запивая чашкой чая или кофе.
Уже тогда у нее, у Заз, был талант – высказывать все напрямик, ковыряться в ране острием ножа, чтобы вычистить нарыв, и словам сочувствия и недомолвкам она предпочитала искренность. Мы спорили, ели, плакали и хохотали до тех пор, пока в сердцах наших не оставалось никакой скрытой боли. В целом этого хватало для нашего исцеления. Если случалось потом вспоминать о ране – мы обнаруживали на ее месте простую царапину.
Хотя… не всегда.
Лиза и я… Наше согласие было для нас драгоценным подспорьем в плавании по жизни. Заз всегда была готова выслушать и понять меня. Мы обе были уверены, что желаем друг другу только счастья. Ее отношение ко мне, ее бескорыстная благосклонность подбадривают меня, заставляют изменить видение проблем, мыслить, реагировать.
Лиза научилась распознавать в моих глазах печаль, боль, даже обиду, смущение или стыд, вместо того чтобы верить в дежурную улыбку, которая на моем лице всегда. От себя ведь не спрячешься. Великолепное сообщничество.
Мы соблюдаем точную дистанцию, которая позволяет нам проникать в наши сентиментальные миры, дружеские, родственные и профессиональные. Абсолютно не стремимся к исключительности и не проявляем никакой завистливости, не задаем назойливых вопросов, выходящих за рамки приличий, никаких отравляющих негативных наклонностей. Вот почему наши отношения не портятся.
Короче говоря, никогда нельзя в точности объяснить, почему так происходит. Это как и в любви. Начинаешь искать причины, тонкости, черты характера, примеры взаимопомощи… А все это, в общем и целом, не более чем подтверждения феномена, выходящего за границы нашего понимания.
Тут дело в сродстве душ. И благодаря необыкновенному совпадению испытываемые склонности души, дружеские или же любовные, в ответе и за то и за другое!
У Заз очень развита художественная восприимчивость. Она работает в музейном хранилище. Выполняет там разные задания в чрезвычайно дружной команде – так она говорит мне. Изумительная у нее профессия. Она вносит свой вклад и в развитие культуры, и в документирование и оценку коллекций.
– Я устраиваю общественные и частные выставки. Ты понимаешь? Это потрясающе! – вопит она, а ее глаза радостно блестят в возбуждении.
И Заз рассказывает мне все в подробностях:
– Это я заведую расположением картин, рисунков и скульптур. Я определяю, в каких тенденциях существуют те или иные произведения, чтобы делать их понятнее. Цель – облегчить доступ публики к различным периодам жизни художника, к историческому контексту, темам, которые он предпочитал… Это очень обогащает.
– Да ведь тебе приходится параллельно проводить кучу исследований, правда? Разом ты учишься множеству всяких приемов и ухищрений!
– Как в сказке! Я пишу тексты, где отмечаю вехи творческого пути, и вместе с группой составляю каталог, в котором есть и эссе искусствоведов-специалистов по тому или иному мастеру, и доскональные разборы произведений. Ну, это скорее для временных выставок.
– Захватывающе! Так ты нашла себя, да?
Она так увлечена, что даже не дает себе труда ответить.
– Я участвую в создании учебных фильмов, которые рассылаются по округе. Чуешь?
– О, Заз, я уже в прострации.
– И еще я занимаюсь выставлением в витрине предметов, принадлежавших когда-то художнику.
Интимная сторона творческого процесса – это меня очень волнует.
– Вот это да! Подержать в руках эскизы, палитру или кисть Курбе – должно быть, чертовски впечатляюще!
– Ты не поверишь – через несколько лет мы собираемся посвятить ему целую выставку.
– Фантастика! Вот уж не будет отбоя от публики!
– О, ты не представляешь, как ошибаешься! Сейчас людей труднее затащить в музеи, чем заполнить кинозалы последним фильмом про Джеймса Бонда. А я этим занимаюсь без оплаты. По вечерам впрягаюсь в макет брошюры: предлагаю заманчивый заголовок, сочиняю вводный текст, выбираю фотографии и добавляю цитату. Потом руководство собирается. Каждый высказывает свои мысли, и принимаем окончательное решение. Ах! Это гениально! Я и не мечтала никогда о такой работе, Мэл! Даже во сне. Как же я довольна!
– А я очень рада за тебя. Заз. Уверена, что ты уже смогла стать необходимой. Скоро они больше не смогут без тебя совсем!