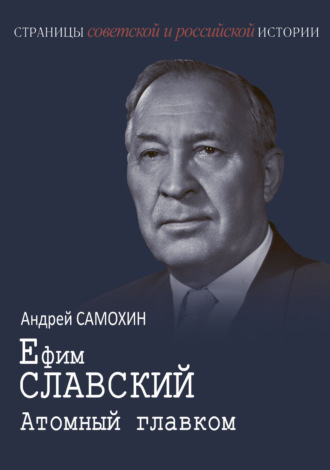
Полная версия
Ефим Славский. Атомный главком
В начале века и особенно накануне первой русской революции 1905 года на Донбассе стали проявлять активность социал-демократы. Так, на Щербиновском и Нелеповском рудниках с 1901 года возникли первые революционные кружки, в которых работал Г.И. Петровский – депутат Государственной думы Российской империи IV созыва, в дальнейшем видный большевик, партийный и государственный деятель. На Берестовском и Богодуховском рудниках, в Юзовке социал-демократическую ячейку организовал «товарищ Артём» (Федор Сергеев), впоследствии основатель и глава Донецко-Криворожской советской республики, близкий друг Сергея Кирова и Иосифа Сталина. Однако в Макеевке, несмотря на близость с Юзовкой, революционное движение до поры до времени оставалось как бы приглушенным.
В родном поселке Ефима, как и везде в Донбассе до осени 1917‐го, менее всего влияния было у большевиков. Смотрели на них как на неких опасных чужаков. Донецкий политолог, историк и публицист Владимир Корнилов в своей книге «Донецко-Криворожская Республика. Расстрелянная мечта» пишет: «О большевиках же во многих районах Донбасса чаще всего вообще не слыхивали. Во времена Первой мировой войны в Юзовке, к примеру, насчитывался всего десяток членов РСДРП(б)» [81. С. 15].
Вот характерный пример из книги того же Фридгута. С началом Германской войны, когда в других промышленных центрах России собирались демонстрации против военного призыва рабочих, в Юзовке и Макеевке, наоборот, происходили массовые митинги в поддержку «войны до победного конца». Робкая попытка нескольких большевиков организовать антивоенные протесты привели к тому, что их с позором изгнали юзовцы, большинство из которых были именно рабочими.
В марте 1917‐го в Макеевском районе возникли Ясиновский, Ханжонковский, Бурозовский рудничные Советы рабочих депутатов с преобладанием, как и в других местах, эсеров и меньшевиков. Рабочей власти противостоял «благородный» Дмитриевск (бывший поселок Дмитриевский), который наконец обрел летом 1917‐го статус города. Здесь власть держали Общественный комитет, городская дума, воинские и казачьи командиры.
По свидетельству Троцкого, в июле 1917 года после неудачной попытки большевистского переворота в Петрограде 2 тысячи донецких шахтеров на коленях, с непокрытыми головами, в присутствии 5‐тысячной толпы торжественно присягали: «Мы клянемся нашими детьми, Богом, небесами и землей, всем, что нам священно в этом мире, что мы никогда не откажемся от свободы, доставшейся кровью 28 февраля 1917 года; веря социалистам-революционерам и меньшевикам, мы клянемся, что никогда не будем слушать большевиков-ленинистов, ведущих своей агитацией Россию к разрушению».
Впрочем, как свидетельствует тот же Троцкий, уже к сентябрю «мнение шахтеров относительно большевиков резко изменилось» [108. С. 12].
Завод и окрестные шахты осенью семнадцатого бурлили. Приходя на работу, Ефим видел, что неизвестно откуда в цехах появлялись люди в городских пиджаках, разносившие листовки: «Товарищи рабочие Донбасса! К вам обращаются ваши братья – рабочие Петрограда и Москвы. Власть министров-капиталистов Временного правительства свергнута революционным народом во главе с партией большевиков. Берите в свои руки власть на своих предприятиях и в местных Советах! Только большевики смогут установить в стране крепкий народный порядок, отразить внешнего врага, отобрать у капиталистов награбленное. Мир народам! Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Вступайте в РСДРП(б)!»
Тут и там возникали стихийные сходки, производство все чаще останавливалось. Подходил, прислушиваясь, и юноша Славский: речи большевиков с Ясиновского рудника нравились ему все больше. Мать заплакала, когда нашла под кроватью у Ефима стопку листовок. А в декабре на станцию Никитовка с севера уже прибыло несколько вагонов с винтовками и пулеметом для рабочих.
Мать отговаривала от «бузы», хватала за руки: «Убьют же тебя, сынку! Казаки прийдут – всех вас повбивают!» Но Ефим только отшучивался – вихрь революции уже нес его.
Хмурые донцы и правда скоро прибыли: их встретили хлебом-солью, сытно накормили и с музыкой проводили обратно заметно подобревших. Впрочем, скоро всё пошло гораздо жестче…
Генерал Алексей Каледин, избранный войсковым атаманом уже 26 октября (8 ноября), ввел военное положение в горнопромышленном районе области Войска Донского, разгромив все местные Советы и разместив по городам и поселкам казачьи соединения. В своем воззвании к рабочим он заявил, что казаки вошли в Донбасс лишь для «наведения порядка» и не будут вмешиваться в «борьбу народа с капиталом». Главных смутьянов сперва не казнили, а лишь высылали с семьями за пределы области. Славского эти репрессии не коснулись.
Но взаимное ожесточение нарастало, и начальная «гуманность» все больше уходила в прошлое. Характерный разговор 14 ноября 1917 года генерала Михаила Алексеева с атаманом Калединым приводит еженедельник «Донская волна», издававшийся в Ростове во время Гражданской войны:
«Каледин. Трудновато становится. Главное – меня беспокоят Ростов и Макеевка.
Алексеев. Церемониться нечего с ними, Алексей Максимович. Видите ли, вы меня простите за откровенность, по-моему, много времени у вас на разговоры уходит, а тут если сделать хорошее кровопускание, тут и делу конец» [111. С. 78].
Вооруженной борьбы с большой кровью действительно было уже не избежать. Сформированные на Ясиновском руднике отряды Красной гвардии захватили санитарный поезд, идущий с фронта на Дон. А затем на станции Лозовая сагитировали и разоружили несколько казачьих эшелонов, возвращавшихся домой. 24 декабря по приказу из Петрограда красногвардейцы на неделю заняли Ясиновский рудник, объявив там «Ясиновскую комунну».
Ефим в эти дни работал на своем уже национализированном заводе: платили продуктами и углем – он не мог оставить семью в голоде и холоде. Однако слухи один тревожнее другого быстро долетали из соседней Ясиновки. Вместе с оборванными, ранеными людьми, которым удалось убежать оттуда.

Алексей Максимович Каледин.
[Из открытых источников]
Донские казаки пошли штурмом на рудник и в итоге взяли его с большими потерями от пулеметного огня оборонявшихся. Говорили, что за пулеметом сидел австрийский военнопленный. Рассвирепевшие казаки забросали гранатами барак, где жили австрийцы, и расстреляли больше сотни красногвардейцев. Вытаскивали раненых из хат, где те пытались укрыться, и секли шашками вместе с прятавшими их хозяевами.
Именно тогда Ефим принял решение вступить в партию большевиков и сражаться за революцию. Он не мог объяснить это, но, как многие из его заводского окружения – сверстники и старшие товарищи, чувствовал, что именно за большевиками будущее. Они знали, что хотели – предлагали не улучшить или «подкрасить» прошлые порядки, а несли на своих знаменах новый порядок. Сумели заронить в сердца образ невиданного еще общества без капиталистов и сословных перегородок, в котором ему – простому рабочему парню из крестьянской семьи – будут открыты все пути.
Славский обратился к знакомому, партийному уже молотобойцу Степану, чтобы он записал его в партию. Тот в ответ лишь крякнул, оглядев Ефима с ног до головы, как будто заново. И пообещал: «Погоди, паря, вступишь еще – ячейку скоро первичную создадим. Работай пока!»
И действительно, еще четыре месяца Ефим трудился на своем заводе, осваивая новые специальности. На Макеевском металлургическом, как и на споро реанимированной после боев Ясиновской шахте, восстановилась строгая революционная дисциплина: Красной республике был нужен и уголь, и металл.
«В 1917 году завод национализировали. 14 апреля 1918 года вступил я в ряды большевистской партии. В начале Гражданской войны и после обращения В.И. Ленина спасать республику ушел добровольцем в Красную Армию», – рассказывал Славский Р.В. Кузнецовой.
После выступления против большевиков донских казаков под руководством атамана Каледина в ноябре 1917‐го явственно проступили контуры будущей Гражданской войны. И едва ли не виднее всего это было на Донбассе. С одной стороны – претендовавшая на весь Донецкий угольный бассейн Украинская народная республика (УНР), которую сменила «Держава» гетмана Скоропадского и Директория Симона Петлюры. С другой – формирующаяся на Юге России Добровольческая армия со значительной частью донского казачества. С третьей – Красная гвардия из донбасских заводчан и отряды Красной армии с Севера России. Вскоре возникнет и четвертая сила – крестьянское повстанческое «зеленое» движение.
Шестого (19) декабря Совнарком РСФСР образовал Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией. Главнокомандующим назначили большевика Владимира Антонова-Овсеенко. В Харькове был организован штаб командования революционными войсками, поступало оружие с Тульского оружейного завода, спешно формировались полки.
В Донбассе тем временем интенсивно собирались отряды Красной гвардии. Их численность к середине декабря достигла уже 16 тысяч человек. Большинство было из рабочих, вернувшихся с войны – с боевым опытом, а часто и с оружием. Ефим Славский – с юности прямой и решительный – рвался вступить в их ряды, но старшие товарищи «придержали» горячего парня.
Между тем Донецкий угольный бассейн, соседствовавший с Украиной и донскими казачьими станицами, – с его промышленным и людским потенциалом – становился «стратегическим регионом» Гражданской войны.
Уроженец села Ясиноватая, видный большевик и активный участник Октябрьской революции Николай Скрыпник (будущий нарком труда и промышленности Украины) вряд ли сильно переоценивал роль Донбасса, когда заявлял: «Донецкий бассейн сейчас – мировой узел, ибо от него зависит судьба русской революции, судьба революции мировой».
За три года здесь сменилась власть рабочих Советов и Каледина, Украинской народной республики Советов (УНРС) и Донецко-Криворожской советской республики (ДКР); Донской республики, кайзеровской оккупационной администрации, Директории УНР, деникинской диктатуры – и вновь советской власти. В этих жарких схватках за Донбасс промышленные Юзовка с Макеевкой всегда оказывались в самом горниле событий.
Макеевский рабочий Ефим Славский, вступивший в ВКП(б) в «горячие» апрельские дни 1918‐го, в полной мере изведал всю страсть, мужество и ужасы «Гражданки».
Оккупировав, согласно «Брестскому миру» Украину, с запада на Донбасс двигались кайзеровские войска вместе с петлюровскими гайдамаками и синежупанниками.

Командующий Украинской советской армией В.А. Антонов-Овсеенко.
[Из открытых источников]
Уроженец Бахмутского уезда, железнодорожный рабочий и большевик со стажем, председатель Луганского совета (будущий Маршал СССР и член Политбюро ВКП(б) Климент Ворошилов 5 марта 1918 года обратился с горячим призывом к рабочим Донбасса и трудовым крестьянам: «Грозный час настал, немецкие белогвардейцы под ликующий вой российской буржуазии двинулись на нашу дорогую, нашей собственной кровью омытую, Российскую советскую федеративную социалистическую республику. Нашей революции, нашим завоеваниям грозит смертельная опасность. (…) Товарищи! Все, кому дороги идеалы пролетариата, все, кто ценят пролитую кровь наших братьев за освобождение России, все, кому дорог международный социализм, освобождающий человечество, все до единого – к оружию!» [70. С. 60].
Именно этот призыв Ворошилова, повторенный во множестве копий для предприятий Донбасса вместе с известным февральским «декретом-воззванием» СНК РСФСР «Социалистическое отечество в опасности!», сподвиг множество рабочих-дончан оставить свои рабочие места и влиться в ряды Красной армии.
В Макеевке в вестибюле заводоуправления были наскоро организованы призывные пункты, где шла запись добровольцев в Українсьу Червону армію, формально подчинявшуюся УНРС, но с главнокомандующим Владимиром Антоновым-Овсеенко, присланным из Москвы и отчитывавшимся непосредственно перед Троцким и Лениным. Ему было рекомендовано не употреблять первую – русскую – часть своей фамилии, чтобы отпор германцам шел как бы от трудового украинского народа, без участия Советской России.
Тогда Ефим Славский получил свою первую красноармейскую винтовку. И, даже не зайдя в родную хату проститься, отправился защищать Донбасс от вражеского нашествия.

Климент Ефремович Ворошилов в 1918 г.
[Из открытых источников]
Часть вторая
С винтовкой и шашкой
Глава 1
«И все должны мы неудержимо…»
«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй», – писал Михаил Булгаков в «Белой гвардии». Много событий уместилось для Ефима и в этом, и в следующем – еще более страшном – году.
Сопротивление рабочего Донбасса немецким интервентам оказалось нешуточным. Численность набранной армии, получившей имя «Первой Донецкой», достигла 40 тысяч штыков. До 5 тысяч из них были «интернационалисты»: чехи, сербы, китайцы и даже… немцы.
Несмотря на изоляцию и острую нехватку сырья, вновь заработала военная промышленность Донбасса: Луганский патронный завод, например, перешел на круглосуточный выпуск боеприпасов. Под Конотопом немцев атаковал и обратил в бегство луганский бронепоезд, только что построенный на заводе Гартмана.
Но силы были неравны, кайзеровцы, сняв дивизии с Западного фронта во Франции, стянули на Левобережье слишком крупные силы. К тому же разнообразие воинских отрядов разной принадлежности (Советской России, УНРС и ДКР, батьки Махно) с разными штабами создавали полный хаос в управлении войсками. Дисциплина и воинская подготовка многих отрядов была откровенно слабая. Юзовка и Макеевка пали в один и тот же день, 22 апреля, а вскоре весь Донбасс оказался «под немцем».

Смотр строя германских войск в конце Первой мировой войны.
[Из открытых источников]
По приказу из новой столицы РСФСР – красной Москвы – 4 мая 1918 года командующий советскими войсками на Украине Антонов-Овсеенко официально объявил о прекращении сопротивления германским, австро-венгерским войскам и о роспуске армий Советской Украины.
После водворения в Макеевке немецкой оккупационной администрации под фиговым листком «Украиньской державы» Скоропадского Ефим Славский вновь оказался на своем заводе, участвуя в подпольной работе. Об этом он иногда без подробностей вспоминал в застольных беседах с близким кругом средмашевцев.
В каких условиях проходила эта работа и как вообще жилось в ту пору дончанам, в своей книге «Немецкая оккупация 1918 г. и партизанская борьба» описал донецкий большевик Иван Змиёв из села Чернухино, работавший тогда в Дебальцеве.
«Приходилось удивляться слабой активности украинских властей и немецкой контрразведки против нашей подпольной деятельности, – пишет он. – Первых, видимо, удерживало быстро растущая вражда и ненависть всего украинского народа против немецких грабителей и их ставленника гетмана Скоропадского. Немцы ничем не интересовались в пользу Украины и ничем не занимались на Украине, кроме грабежа. Они, как разбойники с большой дороги, самым беззастенчивым образом отбирали у крестьян хлеб, скот, сало – паковали всё это в посылки и отправляли в Германию. Почта день и ночь работала только на немцев. Их командиры, коменданты, начальники гарнизонов издавали свирепые приказы и за всякие нарушения их – грозили смертью, контрибуциями. Пороли безвинных людей шомполами. Вешали десятками на перекладинах неизвестных людей (больше рабочих) и не разрешали снимать трупы с виселиц подолгу. Держали весь народ в вечном страхе» [66].
Уже 18 мая 1918 года в Донбассе за саботаж были прилюдно расстреляны 44 шахтера. Немцы массово вывозили продовольствие в фатерлянд, где по сравнению с Малороссией царил настоящий голод. Тем самым приводя этот голод уже в «независимую Украину».
В конце июня – начале июля 1918 года екатеринославский губернский староста докладывал в Киев, что «ввиду полного отсутствия хлеба», вывезенного интервентами, создалось катастрофическое положение в Мариуполе, а также в Луганске и Славяносербском уезде, где «с апреля не получено ни одного вагона хлеба; на почве голода рудники и заводы закрылись».
Из-за нехватки топлива и сырья остановились и металлургические заводы. К осени 1918‐го из 65 доменных печей Донбасса работало только две, а из 102 мартеновских печей – семь. С января по октябрь 1918 года добыча угля сократилась втрое. К концу того же 1918‐го из 120 тысяч человек, работавших на 18 металлургических заводах Юга России, осталось только около 10 тысяч.
Голод вплотную приблизился и к семье Славских. До времени выручали дальние родственники по линии матери, крестьянствовавшие под Екатеринославом. Да Ефиму удавалось зарабатывать хлеб и сало мелкими слесарными работами, которые он освоил, еще работая в шахте перед войной. На отопление потихоньку копали в сумерках уголек на полузаброшенных шахтах.
«Ненависть к немецким палачам-паразитам и их ставленнику гетману Скоропадскому клокотала, росла не по дням, а по часам, – продолжает Змиёв. – Народ, затаив дыхание, терпел, но вражда накоплялась до предела. Нужна была только искра, чтобы вспыхнуть. Это благоприятствовало для подпольной деятельности. Все ждали, что где-то должно начаться».
И началось! Стачки прокатились по всей Украине. В конце июля – августе бастовали металлурги и шахтеры Юзовки, Макеевки, металлисты Бахмута, горнорабочие Гришинского района. Входил в подпольный стачечный комитет и молодой коммунист Ефим Славский. Немецкое командование пыталось возобновить работу угрозами расстрелов, но дни кайзеровцев в шишкастых шлемах в чужой стране были сочтены: Германия проиграла войну, там назревала собственная революция.
Немцы уходили, а с Дона и Кавказа на Донбасс уже надвигались казачьи сотни атамана Шкуро и дивизия Добрармии под командованием генерала Май-Маевского. Их поддерживали английские и французские интервенты, чьи корабли бросили якоря в Севастополе, Одессе, Херсоне.
Гражданская война вступала в свою главную фазу. И в ней крепко поучаствовал молодой макеевец Ефим Славский.
«Был зачислен в 9‐й Заднепровский Украинский советский полк и около года воевал на юге под руководством Дыбенко. Заболел. Когда поправился, полк был уже далеко», – скупо вспоминал на склоне лет пенсионер союзного значения Ефим Павлович Славский [85. С. 13–14].
Память человеческая избирательна и многое оставляет за кормой в пене времени. А есть еще вещи, которые помнить слишком хорошо, тем более повествовать о них было бы неосмотрительно. Долгая жизнь и работа в закрытом ведомстве страны научили Ефима Павловича «фильтровать» слова и воспоминания. И те месяцы боев: ярких побед и тяжких поражений 1919‐го, а особенно личности командиров, под чьим началом ему пришлось тогда повоевать, не напрашивались в мемуары. Хотя рассказать Славскому наверняка было бы что.
Первая Заднепровская дивизия (4 тысячи штыков, 50 пулеметов, 18 пушек), куда входил и 9‐й Заднепровский полк, была сформирована в феврале 1919-го.
Начдивом был назначен Павел Дыбенко, начальником политотдела – его «гражданская жена» – Александра Коллонтай (Домонтович) – небезызвестная «аристократка-большевичка», позже министр первого советского правительства и посол СССР в Швеции.
Сам Дыбенко был весьма колоритным и, мягко говоря, своеобразным даже для революционного времени персонажем. Кронштадтский полуграмотный «братишка-матрос» с кудрявой черной бородой, пьяным стрелявший и топивший офицеров в полыньях Кроншдатского льда, в феврале 1917‐го, он стал одним из видных «символов» Октябрьского переворота (именно по его приказу выстрелил крейсер «Аврора») и был за это назначен Лениным на адмиральскую должность наркома Военмора.
А 23 февраля 1918‐го (в день, объявленный позже праздником становления Красной армии) под Нарвой он, бросив фронт, бежал со своими матросами от наступавших на Петроград немцев. За что был исключен из партии и отстранен от должности наркома. Дзержинский и Троцкий хотели его арестовать, судить, а последний – так и расстрелять за дезертирство. Когда беглого Дыбенко чекисты все же выловили, его страстно защищала Александра Коллонтай. А еще – матросская «братва», пообещавшая обстрелять Кремль и начать убивать большевистских вождей в случае казни своего кумира.
Расстрелянный в 1937‐м – чуть позже Михаила Тухачевского, с которым вместе подавлял Кронштадтский мятеж балтийских матросов, восстание тамбовских крестьян и на которого потом писал доносы, – Павел Дыбенко был по свей человеческой сути очень далек от Ефима Славского.
Осмелимся это утверждать несмотря на то что уже на пенсии, рассказывая про свою жизнь в кинофильме, Славский как-то отозвался о Дыбенко: «Какой командир и человек был! Оболгали его, погубили». Думается, что это была поздняя «романтизация образа». Хотя кто знает: возможно, именно таким он ему запомнился. А вот про более непосредственного своего командира Ефим Павлович вообще никогда не распространялся. Почему – будет понятно из дальнейшего рассказа.
Командование новой дивизии планировало сформировать шесть полков, сведенных в три бригады, однако позже бригад оказалось четыре, а полков – девять. Командиром одной из бригад был назначен феодосийский рабочий Котов, другой командовал хозяин Гуляй-поля батька Махно. Третьим командиром позже стал Никифор Григорьев – слабо управляемый «атаман», штабс-капитан и авантюрист, поднятый пеной смуты в «народные военачальники» и послуживший до этого и гетману, и Директории. Его бригада цветисто именовалась «Первой Херсонской дивизией Атамана повстанческих войск Херсонщины, Запорожья и Таврии Н.А. Григорьева».
Как и Махно, Григорьева поначалу объединила с красными борьба с петлюровцами и с белой Добровольческой армией, приступившей в начале девятнадцатого к активным наступательным действиям. Отряды Махно вошли в дивизию Дыбенко на правах отдельной бригады с выборными командирами, черным флагом и лозунгом «Анархия – мать порядка».
В архиве Российского военно-исторического общества содержится несколько упоминаний о 9‐м Заднепровском Украинском советском полке, где служил Ефим Славский.

Павел Дыбенко и Нестор Махно.
[Из открытых источников]
Читаем в «Приказе по группе войск харьковского направления о создании Заднепровской украинской советской дивизии. 19 февраля 1919 г. за подписями «Врид. командующего группой Скачко, Врид. начштаба Картышев»:
«…Из 19‐го и 20‐го полков образовать 3‐ю бригаду под командой т. Махно, в составе которой должны образоваться 7‐й, 8‐й и 9‐й Заднепровские пехотные стрелковые полки» [10].
В приказе также поясняется, что в состав дивизии входят бронепоезд № 8 «Грозный», авиаотряд, броневой дивизион, артиллерия в количестве 15 орудий и 1‐й Екатеринославский кавалерийский дивизион.
Согласно этому документу, донецкий рабочий, большевик Ефим попал служить в Красную армию под команду батьки Махно! Если он сам в воспоминаниях не путает номер полка (а это вряд ли – такие вещи отпечатываются в памяти навсегда), то понятно, почему он не считал нужным обозначить тот свой период боевых действий хоть какой-то конкретикой. Учитывая последующую судьбу анархистов Гуляй-Поля и самого батьки, тема эта была, деликатно говоря, «непопулярной» в советской мемуаристике.
Стоит сказать, что «армия» революционера-анархиста Махно (Нестора Ивановича Михненко) была одной из самых мощных и влиятельных на Украине вооруженных группировок. Про военные способности Махно ходили легенды, его тактика боев с быстрыми нападениями и стремительными маневрами рессорных тачанок с пулеметами изумляли противника, их позже повсеместно переняла Красная армия. Наглядные военные успехи махновцев заставили большевиков искать с ними «тактического» сближения на Украине: воевать на три фронта – с белыми, петлюровцами и «зелеными» – было явно несподручно. Ведь в селах юга Украины повсеместно пели: «За горами, за долами ждет сынов своих давно батько храбрый, батько добрый, батько мудрый наш – Махно».
Концовка этого альянса, скорее всего, была заранее ясна Ленину и Троцкому, но, по-видимому, невдомек на первых порах «батьке». Впрочем, выбор союзника у него также был невелик: белые не подходили «классово», а Петлюра – и классово, и национально: будучи малороссом и ведя за собой крестьянские массы Украины, Махно ненавидел украинский «щирый» национализм и антисемитизм.
Вопреки распространенным о нем позже байкам, беспринципным авантюристом-бандитом он точно не был, верил в победу анархистской революции во всем мире и крестьянско-рабочую безвластную мировую республику. Что «органично» соединялось в нем с разгульной разбойничьей удалью.






