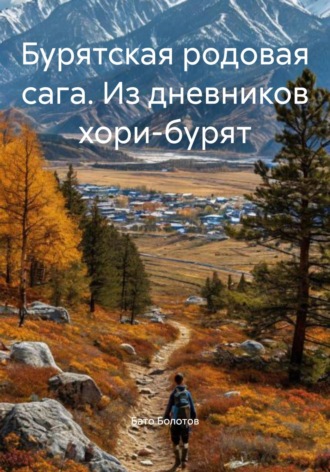
Полная версия
Бурятская родовая сага. Из дневников хори-бурят

Бато Болотов
Бурятская родовая сага. Из дневников хори-бурят
Посвящаю дочери Эржене,
внукам Рустаму, Бато и Бэлигто
Пролог
С возрастом сны приходят все реже. Если что и приснится, к утру стирается из памяти, как небыль. Всплывают лишь туманные очертания видений, словно размытые дождем натюрморты, с человеческими фигурками вдали, неряшливо писаные гуашью. Говорят, сюрреалистичные сны приходят к людям, испытывающим душевные и эмоциональные переживания, или кого детство не отпускает.
Но меня до сих пор не касалось и ни то, и ни другое. А тут сон о далеком-предалеком детстве. И как бы все происходит наяву, прямо сюрреализм на самом деле: и лица, и пейзаж, и старинная песня, как в детстве – и было, и одновременно не было как бы.
… Мы с бабушкой собираем землянику. На высоком берегу реки Тура, на опушке леса есть полянка, где из года в год, удивительно плодовит урожай үльзөөргэны.
– Ягоду үльзөөргэны русские называют земляникой, – тихо рассказывает бабушка, пока мы ползком, вглядываясь в травянистые заросли, выискиваем красненькие ягодки.
– Оттого, что растет на земле?
– Да-да, земля кормит нас.
– Бабушка, үльзөөргэны звучит красиво, а слово «земляника» как-то не вкусно…
Бабушка улыбнулась и сказала, что есть такая богиня, зовут ее Ника, жила она далеко-далеко, в Греции, и вот эту ягодку назвали Богиней Земли, то есть земляникой…
Мне понравился рассказ бабушки о землянике. Особенно сказ о богине, выдуманный бабушкой, часто улыбался в жизни, вспоминая этот эпизод из детства.
Потом не громким, красивым голосом, напевает: «Урдахил агу гоё оройдоо, уханш эшэтэй жэмэслэй, узуураа дуурэтэр урганалдай, урагшашь-хойшошь наганалдай…» («На пречудесненькой полянке, несусветно ароматные ягодки, на земле они рясно растут, нагибаясь и вперед, и назад»). Мне чудится, чем нежнее она поет, тем больше ягод появляется на нашем пути. Ненадолго прерывая песню, бабушка рассказывает то, о чем я впервые слышу:
– Земля, малыш мой, это наш Бог, и называем его Дэлэхэй дайда, это как мать для человека. А небо – Тенгэри – наш отец, и каждый человек в мире почитает и лелеет вечное синее небо и богатства родной земли…
Мне кажется, весь мир застыл, Дэлэхэй дайда вслушивается в эти загадочные мелодии, и в этот приглушенно-мелодичный голос.
– Бабушка, пой громче, – прошу.
– Душа песни теряется, коли громко поешь, не нужно нарушать покой Дэлэхэй дайда и Тэнгэри, – сказывает она. – Вот, видишь, бабочка, порхает не слышно, зато красиво, любуемся ею, а назойливые комар или оса громко жужжат, и… жалят.
Бабушка все напевает и напевает воздушно-сказочные бурятские напевы, и под эту песню я уже заполнил берестяной туесок. А совсем рядом, шагах в двадцати, внизу, у ручья, во мху, увидел голубику. И поморщился, вспомнив сахаристо-кисловатый привкус этих ягодок, положишь на язычок, слезки наворачиваются.
Бабушка, увидев набухшие слезками глаза мои, удивилась: «Так тронула тебя песня?!»
И вправду, на глаза мои, от этих неслыханно красивых, словно нашептываемых, напевов, накатываются слезинки. Они прерывисто, по капельке, катятся по щеке, и бабушка, сняв цветастый платок с головы, утирает солоноватые, малюсенькие слезинки…
– Не плачь, мальчик мой, – шепчет бабушка. И тут же сама утирает уже свои слезки. – Плачешь, значит есть у тебя глубинная душа, сердце лебедя, вырастешь неравнодушным, хорошим человеком.
Сквозь слезы я все смотрю на голубику, она неподалеку, ближе к ручью, которая втекает в Туренку. Она еще беловато-зеленоватая, но ягоды так много, что кустики нагибаются к земле.
Бабушка ловит мой взгляд, и рассказывает: «Дней через двадцать придем, наберем голубицы. Ягодки станут пунцово синенькими, и вкус у них будет божественный…»
Сидим, отдыхаем. Бабушка налила из березового туеска еще не остывший чай, протянула мне завернутые в платок лепешки. На них мажем погустевшую, маслянистую сметану.
Вкусно!
– Ты, внучек, смотри внимательнее на природу, она, как умная книга, открывает перед тобой все тайны Дэлэхэй дайда и Тэнгэри. Вот, видишь, чем глубже река, тем тише она несет свои воды. Тура река глубокая, ее и не слышно вовсе, а вот рядом ручей – журчит и журчит, нет покоя от нее. Так и человек, чем умнее, тем немногословнее.
Я прислушиваюсь к ее словам, понимаю.
– Почему вопросы не задаёшь? Смотри мне в глаза, по взгляду увижу, согласен со мной или нет?!
Я киваю в знак того, что слышу и понимаю ее.
– Я ем, хугшэн эжи (бабушка, с бур.), ты сама учила, кушай молча…
– Ах ты… Да, говорила…
– А что значит, учиться у природы? – спрашиваю.
– Ну, примеров много… Вода в реке, когда на ее пути встают валун или дерево, огибает эти препятствия. Значит, нужно учиться обходить препятствие…
– А это, как, бабушка?!
– Чтобы обойти препятствие, вода набирает силу, поднимается выше, или обтекает, но продолжает свой путь…
– Я видел, возле камня или большой коряги, пенится вода, воронки образуются, сердится вода, когда ей не дают свободный путь…
– Молодец, глаз-алмаз, наблюдательный…
Бабушка молчит, пристально всматривается в меня, гладит по головке.
– Мы, буряты, тоже похожи на воду.
– Бабушка, а как это?!
Она увидела в моих глазах неподдельный, интригующий интерес, улыбнулась уголками губ:
– Наши семьи, когда наступает весна, словно талая вода, растекаются по степи со стадами овец, табунами лошадей, гуртами коров и быков, как в наводнение, шумно, напористо… А к зиме, словно река во время шуги, накрываемся шубами, у овец нарастает шерсть, и стекаемся тихо, без шума, гомона, обратно в места зимовок. Наши мужчины, когда делают загоны на волков, или охотятся, шумно и бурливо, как вода на перекатах, растекаются, с криками, гомоном по таежным буеракам. Потом, учуяв зверя, затихают, целясь… Это похоже на весенний паводок, течет шумно, говорливо, а достигнув берега, успокаиваются…
Наверное, смотрел завороженно я, она снова погладила мою прическу, приласкала.
– Внучек мой! Природа мудра, она прекрасно обустроила земную жизнь. Поэтому научись постигать Дэлэхэй дайда и Тэнгэри, учиться ее премудростям… Вода бесцветна и прозрачна, нет запахов, мягче воды нет ничего на свете… Кажется, она слаба сама по себе, но ведь без нее не будет жизни… Река Туренка наша, неутомима, течет себе и течет, досыта напоит жаждущих, дает жизнь всему живому на своем пути… Если грязь в дождь, она помутнеет, но тут же муть на дно уйдет.
Время от времени бабушка замолкала, наверное, подбирая слова и образы:
– А ведь вода очень могуча и сильна, посмотри, камешки на дне речки, гладкие, округлые, это вода их отшлифовала. Еще, видеть во сне чистую воду – это хороший знак. Учись у природы, и тогда в жизни любые преграды преодолеешь, Дэлэхэй дайда и Тэнгэри учат жизни, преодолению препятствий на твоем пути, ведь жизнь – это и страдания души и тела, через них приходят радость и счастье.
Бабушка любила рассказывать интересные истории, но в этот раз была очень красноречива:
– У природы много невзгод, то морозы и снега, то жара и засуха, случаются ураганы и наводнения, то ночи длинные, а дни короткие. Словно Дэлэхэй дайда и Тэнгэри испытывают свое дитя – человека, чтобы он учился преодолевать любые невзгоды. Трудности закаляют нас, и тебя они закалят. Если трудно идет учеба по математике, это не повод стыдиться, или говорить, что ничего не можешь, ты бессилен. А, наоборот, возьмись за учебу, вечерами и в выходные учи правила, решай все новые и новые задачи. Заставь себя работать… И ты увидишь, успехи придут…
– Даа, бабушка! А я смогу так?!
– Сможешь! В этом и есть смысл жизни – работать, трудиться, чтобы получить радость …
– Работать, чтобы радость получать?!
– Да, мой хороший. Ведь после трудной работы, приходит время отдохнуть. Это и есть радость. А если ничего не делаешь, то и радости нет…
– Если бы мы не трудились с тобой, и ягоды бы не насобирали, так ведь, хугшэн эжи?
– Да, так и есть…
Мы сидели в этом райском уголке природы, и всё, что говорила бабушка, оставалось в моем сердце, в памяти.
С возрастом ее уроки жизни меняют краски, смыслы, эти воспоминания стряхивает пыль с души.
Я четко запоминаю ее слова, ну, их смысл.
– Не верь тем, кто чересчур тебя хвалит.
Я, видимо, с удивлением поднял на нее глаза, тогда она вновь повторила:
– Да-да… похвала бывает зачастую лживой. Иной человек льстивыми словами окутывает тебя. Остерегайся таких, они не искренни.
– Папа часто хвалит, и что теперь?
– Родные – другое дело, они от всей души говорят… Но было бы лучше, если с тобой говорили, как со взрослым…
– Как ты, баба?
– Не знаю…
Тут просыпаюсь… Не могу понять, что со мной… Почему-то слезы на глазах… И вдруг вспоминаю давнишний, тихий, словно из какой-то прошлой жизни, бабушкин голосок:
– Слезы во сне, не плохой знак, больше к добру, к неожиданной встрече…
Все еще лежу, проснувшись, а воспоминания захлестывают память.
– А по-русски эту же песню можешь спеть? – спросил бабушку я тогда.
– Песня бурятская, и петь нужно на родном языке. Душа такая у песен…
А еще бабушка несколько раз рассказывала легенды о Бальжин хатун, бурятской княжне, предводительнице хоринских бурят, героине народа. Иной раз, вспоминая бабушку, думал, кто она, красивая и сильная бурятская женщина Бальжин-хатун.
В памяти народа сохранено ее имя, есть Бальжин нуур, недалеко от святых гор Алханая – Бальзинское озеро. Именно из этого озера начинает свой путь река Тура, несет она свои воды в долине между Даурским и Могойтуйским хребтами. Длина реки не большая, лишь сто километров, словно отсчитана километрами человеческая жизнь, это как бы ее век. На берегу той реки, в полустах километрах от озера, мы и собирали үльзөөргэны.
Много позже, через десятки лет, вспомнив рассказы бабушки, раскрыл для себя тайны той легенды о Бальжин хатун.
В детстве думал, что Бальжин-хатун похожа на мою бабушку, смелую, красивую, умную – потому и запомнилась легенда.
Хатун – дочь Тогон Тyмyр-хана, так писал Цыбен Жамсарано. Другой хан, Бyбэй Бэйлэ, имел сына-наследника – Хун-тайжи. Ханы женили молодых, породнились, так часто бывало в те времена.
Бальжин-хатун была горделивой, своенравной бурятской красавицей. Не ужившись с мачехой своего мужа, уговорила супруга откочевать из Монголии со всеми своими подданными, к одиннадцати отцам хоринских бурят, за реку Онон. Бальжин хатун и муж Хун-тайжи построили крепость в Забайкалье и жили, не отбывая никаких повинностей. Имя дали своему новому племени – хори хyхy тyмэд (хори синие тумэты).
Тем временем мачеха говорила мужу Бyбэй Бэйлэ: «Барствуют твои молодые, никаких повинностей не несут. А про меня ходит молва, будто я сослала твоего сына и невестку в почетную ссылку. Ты, если настоящий хан, обуздай их. Приведи к себе, а если нет, меня отправь к родителям, разведемся!»
Бyyбэй Бэйлэ послушался жену и приказал, чтоб сын явился к нему.
Бальжин-хатун, завидев вооруженную сотню тестя, поняла сразу, в чем дело, бросилась бежать к своим родственникам. Тем временем ее мужа, Хун-тайжи поймали, увезли к отцу в Маньчжурию.
Воины Буубэя пустились в погоню, перестреляли охранников Бальжин-хатун, а потом стрела маньчжуров догнала и ее лошадь. Не растерялась бурятская княжна, что есть силы, бежала от вражьих воинов. Чтобы легче было, гласит легенда, Бальжин-хатун отрезала себе груди и бросила в предгорьях святого Алханая. Но все равно маньчжуры догнали бурятскую княжну, истекающую кровью, доставили к хану Буубэю, который распорядился казнить непокорную и гордую княжну, как зачинщицу родового восстания.
Отец Бальжин-хатун, Тогоон Тyмyр, в связи с этими событиями, потерял царство, был побежден маньчжурским ноёном. Потому-то так смело и жестоко обращались с его дочерью.
С тех пор в том месте, почти у подножия святого Алханая, образовалось озеро и буряты дали имя водоему – Бальжинын хатан Сагаан нуур Тура гол дэрэй.
По версии летописцев, после таких событий, хори-буряты добровольно приняли русское подданство, даже сами воевали с маньчжурами. В бурятском народе бытуют легенды и сказания о хоринских богатырях Ажирай-бухэ, Бабжа-Барас-баторе, проявивших смелость в боях с маньчжурами.
Эти воспоминания окончательно вернули меня в реальность, и я вспомнил, кто-то и когда-то говорил, если снится бабушка, значит, она удовлетворена твоим жизненным путем. Я вновь вытираю слезинки, словно изгоняю сон.
Сон, как небыль, но здорово, что возвращает детство и дорогие черты любимых людей.
РИНЧА
Глава I
И тут запела «мобила».
Вздрагиваю.
Все еще жалею, что так и не успел спросить бабушку, что такое душа? Она иной раз умела находить необычные слова, говорила так, что западали в душу ее мысли. «Все хорошее, что случается, запоминай душою, – говорила она, – а плохое, пиши на воде».
Значит, наверное, забывай. Иногда вспоминаю эту ее заповедь и стараюсь следовать советам бабушки.
Часто в жизни приходилось спрашивать себя: «Что такое душа человека, душа песни, почему сердце и душа человека, подсказывают правильный путь в жизни, а знания, почерпнутые из книг, насколько бы они не были глубокими, всесторонними, это лишь знания, способны помогать в работе, но не всегда подскажут правильный жизненный путь…»
Ответы на такие вопросы я давно уже нашел, конечно, но бабушкины советы были бы умными, жизненными, не книжными.
«Мобила», наконец-то, замолкает. Но через мгновение снова запела. Поднимаю «трубу» и слышу:
– Пирвет, как дела?!
Да-да, вспомнил, правда, с трудом, этот голос, и искаженное от слова «привет». Это приветствие вернули меня в давние дни молодости. Это был Ринча – Ринчин Батадаев, мой хороший знакомый еще со времен молодости.
– Не удивляйся, к тебе приехал, персонально, стою возле твоего дома.
– Как?! – я в недоумении.
Не сказать, что были друзьями. Просто хорошие знакомые, товарищи, сблизившиеся еще в далекой юности, как коллеги в районной газете. В реале я не очень общительный, чаще говорю «нет», чем «да», не сразу иду на контакт с людьми. Они приходят и уходят. Кто-то лишь мелькнёт, а кто-то надолго задерживается в жизни. Но все они, так или иначе, оставляют след в жизни.
А приятельские отношения привык рассматривать как отношения без обязаловки. Типа «привет, пока, как дела?»
Меня очень удивил Ринча. К тому же я допоздна слушал Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», потом сопоставлял комментарии известных политологов и политиков – уснул лишь под утро. Этот ранний звонок ошарашил меня, прервал сон, все смешалось в голове – и сон, и бабушкина песня, эти слезинки, и Путинское выступление. Я с трудом заставил себя вернуться в реальность.
– Ну, что ж, поднимайся на мой третий этаж, жми кнопку домофона, моя квартира…
–-Я знаю номер твоей квартиры…
Мысленно подумал, прямо какой-то гэбэшник. Ну да, ладно. Уже звонок в дверь. Открываю.
И вот стоит он – Ринча! Я бы не узнал его, наверное, если встретил где-то в городе, случайно. Изменился: изрядно поредела густая шевелюра, лоб испещрен мелкими, короткими, морщинками. Нос, как перезревший помидорчик, чуточку раздулся, скрывая скуластость, убавляя щеки. При встрече с такими людьми знакомые неизменно подшучивают: «Ну, ты и выпить горазд! Опять нос красный».
Но Ринча, помню, никогда не увлекался этим, все в меру.
А вот глаза, глаза не изменились – остались, как и в молодости, бодрыми, улыбчивыми, смотрящими на тебя как-то въедливо и настырно. Эта игривая смешинка делала его взгляд добрым и располагающим. Только внешний край округлых, с густыми ресницами, глаз, испещренный мелкими морщинками, скрывал азиатскость, взгляд его глаз с зеленоватым оттенком становился чуточку европеидным, намекая на скрытую информацию о заблудших где-то, не чистых, генах. Но кого это удивляет в нашем Забайкалье?!
Одет слишком не серьезно – осень поздняя, а наряд почти летний: легкие туфли, поношенные джинсы, ветровка поверх рубашки, смешная кепчонка со словами «Байкал» на седой голове.
Закатил ему четверостишие:
А я иду в задиристой кепчонке,
Едва заломленной набекрень.
Как будто вновь спешу к девчонке
Вчерашний вспомнил день.
– Не глумись над фартовым мужиком, – сказал он, то ли по-дружески обнимая, то ли, подталкивая плечо в плечо в знак дружбы, а может это был жест извинения, что пришел так некстати. И он, как бы в ответ, начитал:
Я поправлю небрежно кепчонку,
В моросящий октябрьский денек.
На ладонь мне положит листочек
Девчонка, которой уж нет,.. – эти строки, наверное, написал сам, подумал.
Он разделся, аккуратно поставил на пуфик в прихожей желтый, скорее всего, из кожи, старенький, помятый, но очень большой, пузатый, портфель. И все что-то говорил и говорил.
Уже потом, когда он ушел в туалетную комнату, восстановил диалог.
– А что это у тебя за музыка такая на телефоне, шансон?
– Да, в исполнении группы «Монгол шуудан». Мне тоже нравится песня о Москве в исполнении Монгола, – сказал Ринча, вытирая руки. – Частенько крутят эту песню на Русском радио… Особенно эти, о Москве: «Да, теперь решено без возврата, я покину родные края. Уж не будут листвой крылатой, надо мною звенеть тополя…»
– Кажется, это Есенинские строки:
… Я люблю этот город вязевый
– Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах…
Ринча продолжал:
– А ведь в этой группе нет ничего даже близко монгольского. Просто русские ребята однажды в московском киоске «Союзпечать» увидели почтовые марки, на которых было написано «Монгол шуудан», что в переводе означает «Почта Монголии». Ребята искали для своего ансамбля звучное название, и не могли придумать ничего подходящего. А вот увидели в киоске журнал, и название, как говорят, шибануло. И прицепили журнальное название к своей группе.
– Ты, Ринча, сказать желаешь, мол, все монгольское в России, искусственно притянутое!? Не естественное? Ты принижаешь…
– Стоп, стоп! Нет, конечно…
– Но ведь интонация тебя выдала…
– Стоп, и еще раз стоп! Помню, ты в бой кидаешься сразу… Давай, поостынем… Ничегошеньки даже не намекаю… Просто выдал тебе факт, какой он есть…
– Ладно, понятно, – успокоили слова Ринчи.
Я слушал его и никак не мог понять, какая хрень затащила его ко мне, но не прогонять же, в самом деле, все-таки старинный товарищ, работали немного бок о бок.
– Ты знаешь, мы люди уже в возрасте. Иногда пытаюсь осмыслить свою жизнь, расставить прожитые годы как бы по полочкам. И тогда возникает ощущение, что смотрю на свою жизнь, как в окно. Только окно это чуднóе, похожее на огромную стену жизни с подвешенным на ней экраном телевизора. И экран этот схож с окном. Но за настоящим окном разворачивается реальная жизнь, а за нарисованным – старые, черно-белые, кадры кинохроники, отснятые Судьбой. Окно расположено далеко внизу, и смотрю на прошлое как бы с высоты прожитого, вижу всю прошлую жизнь, а люди там, внизу, меня не видят и не знают, что за ними кто-то наблюдает. А наверху огромное, синее небо, Тэнгэри, оно такое бездонное, бесконечное, вечное, притягательное в своей чистой голубизне и нет там ни скорби, ни ругани, ни ссор, никто никого не обманывает, не лжет – вечная чистота…
– А ты философ, – говорю. – И речь твоя грамотная, литературная, что ли, так в жизни не говорят. Ведь прав? – я смотрел прямо на Ринчу, выжидающе, почти не моргая, наверное, думал, что скажет, тогда, возможно, пойму, зачем он у меня.
– Знаешь, в последнее время много пишу, не знаю, как это назвать, воспоминания, что ли, нет, если точнее, это дневники, – начал рассказывать Ринча, усевшись на табуретку у кухонного стола.
Слушая, поставил чайник, осмотрел холодильник, желая понять, чем угостить гостя. Наверняка, он голоден, только с поезда.
– Так вот, когда пишу, чувствую, речь становится правильной, выразительной, ну, близкой к литературной, – как бы оправдывался Ринча за свою правильность. Потом хихикнул. Если это был смех, показалось, уж слишком натянут, искусственен, словно за ней скрывалась какая-то загадка.
– Тут я прослышал, занимаешься книгами, – посмотрел он вопросительно.
– В смысле? – не понял его.
– В том смысле, что пишешь книги…
– Ты неправильно информирован, редактирую перлы людей, желающих оставить свой след на земле. Перед изданием редактирую, вношу некоторые правки, уточняю факты, проверяю их, вот и все.
– Да ладно прибедняться, слышал, сам пишешь, а авторство…
– Не сочиняй, зачем это мне?! Если уж наступит такое желание – написать книгу, сам, наверное, возьмусь… Хотя, едва ли, я лень большая… К тому же, если писать книгу, нужна какая-то идея, идеальная причина, такая, чтобы по твоим книгам человечество, ну, может, хотя бы несколько десятков или сотен человек, нащупали, как нужно жить, чтобы меньше ошибаться. Если этого нет – пустая затея, неуважение к читателю. Причина должна быть достаточно веской, чтобы читатель не пожалел о потраченном времени. Значит, в книге должна быть какая-либо значимая идея, тема и смысловое наполнение.
– Тогда и мои перлы отредактируй… Вот, написал… нет… подготовил книгу… Привез тебе, как к редактору. В электронном и бумажном вариантах, – вдруг выпалил Ринча, словно долго ждал подходящего момента, чтобы сказать именно эти слова.
– Что-о-о-о, что?!
Моему удивлению нет предела.
Ринча вытащил из портфеля обыкновенную канцелярскую, пухлую папку, наполненную, наверняка, не менее, чем тремястами страницами. Угадываю количество страниц одним взглядом, много перевидел так называемых «рукописей» – хотя от руки уже давно не пишут, но отсканированный текст, все равно, по старинке, называем рукописью.
– А вот и флэшка… – у него был вид школяра.
Мне стало жаль его. «Все-таки, как он постарел», – подумал и тут же мысленно вздрогнул: «Наверняка, так же Ринча подумал и обо мне…»
С такими мыслями взял папку, флэшку и поставил на компьютерный стол в соседней комнате. Поймал себя на мысли, неужели в наши дни стало модным писать книги на старости лет. Тут же подумал: «И на хрена мне эта головная боль с его книгой, он сошел с ума…»
Но мои мысли разбились вдребезги, когда он вытащил 750-граммовую бутылку армянского коньяка Proshyan в филигранно выполненной, бежевого цвета, деревянной коробке. Я знал, такой коньяк двадцатидвухлетней выдержки, и стоит почти десять тысяч рублей. Но ни разу не пробовал – дорогой уж слишком.
Ринча выжидающе смотрел на меня. Сделав вид, что в этом подарке нет ничего необычного, весьма обычным тоном произнес:
– Да, хороший коньяк, купажированный. Такой коньяк нужно принимать малюсенькими глотками с ароматным кофе.
– Но мы же простые русские парни, – возразил Ринча. – Давай, хлопнем сей напиток, как русскую водку.
Мне было, конечно, лестно получить такой подарок. Где-то читал, подобный купажированный армянский коньяк создают по классической технологии из отборных спиртов, более двадцати лет выдерживают в дубовых бочках в погребах винодела Прошяна.
– Кстати, скоро имя «армянский коньяк» уйдет в историю, будет «армянское бренди»… Так решили французы.
– Да, читал…
– Но и французский коньяк под давлением… Из-за пресловутых санкций Китай прекращает импорт из Франции коньяка, а теперь и в США, видимо, золотым станет… А считался ведь у советских мужиков божественным напитком…
К тому времени, на скорую руку, сварганил макароны по-флотски.
– О-о, как быстро. А где супруга? – настороженно спросил Ринча.
Он слышал, видимо, о крутоватом нраве жены, впрочем, как и многих жён, поэтому, видимо, остерегался.
– Репетиторством занимается, не скоро придет, – успокоил его.
– Ну, давай, накатим… Вспомним былые годы…
Хрустально толстые, с коньячным переливом на гранях, еще советские, рюмки заранее положил в морозилку, туда же сунул бутылку коньяка. Теперь вытащил.
– Ну, Ринча, коньяк, да еще армянский, купажированный, да к тому же по-быстрому… Не смеши меня…
– А ты зачем рюмашки в морозилку клал?! – этот вопрос натолкнул меня на мысль, что Ринча, видимо, подзабыл наши молодые годы.
– А ты вспомни Фадеева, коррТАССовца, помнишь, он говорил нам, не водку охлаждай, а рюмка должна быть ледяной…
– Да-а! Вспомнил! Хороший был мужичище! Такой же совет давал Дмитрий Бальтерманц, фотокорр «Огонька», помнишь, заезжал в редакцию…
– Он еще говорил, водка хороша под жирную селедочку с рассыпчатой картошкой и не любил закусывать котлеткой…

