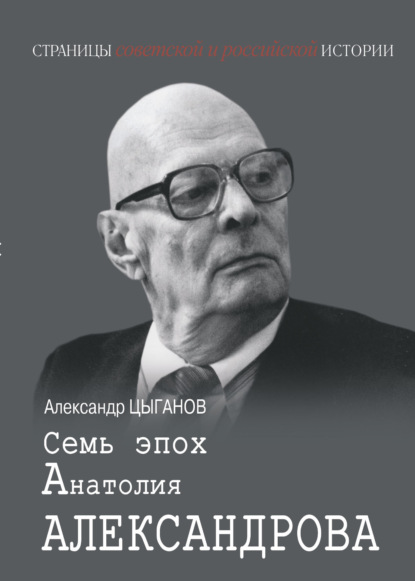Полная версия
За мной, читатель! Роман о Михаиле Булгакове
– Оставьте, оставьте, – как и полагается герою, отказывался он от подаяний. – Вашей девочке нужнее. А ваш мальчик такой молодец! Я спросил его: «Боишься?» Он честно: «Боюсь, и очень». Тогда я ему: «Русский человек должен только одного бояться. Знаешь чего?» – «Чего?» – «Позора». И когда я приступал к операции, он, милый, шептал: «Только не позора, только не позора!» Настоящий человек вырастет.
– Дай вам бог, доктор! Ручки вам целовать, больше ничова не остается. Хотя бы сальцо-то возьмитя!
– Ну, сальцо ладно. Ух ты, душистое какое, чесночное! А ваша девочка такая смешная, говорит: «Доктор, вы мне голову не отрежете случайно?»
На всю больницу он был один врач, при нем сестра милосердия плюс ассистент-фельдшер, да на подхвате Тася. Что и говорить, если две трети врачей на передовой, война-то продолжается. И порой ему приходилось немногим легче, чем в Галиции во время Брусиловского прорыва.
А летом начался дифтерит. И вот тебе – чеховский Дымов. Проводя трахеотомию задыхающемуся ребенку, Михаил Афанасьевич трубочкой отсасывал из горла малыша фибринозные пленки, и одна из пленок попала ему в рот. Чтобы не заразиться, пришлось срочно впрыснуть себе лошадиную сыворотку, от которой сначала распухли губы, потом все лицо, потом начался зуд в руках и ногах, перешедший в невыносимые боли. Требовалось несколько часов перетерпеть, и все бы обошлось. Но терпеть он долго не смог и закричал, чтобы ему ввели дозу морфия. Медсестра Степанида сделала инъекцию. Ничто не помогало, он стал кричать от боли, но минут через десять…
Сначала он ощутил приятное прикосновение незримой теплой ладони к шее, затем боль стала ослабевать, одолел сон, он лег, и ему приснилась обворожительная кудрявая брюнетка, отдаленно напоминающая обуховскую тайную подругу. Только ту звали Катей, а эту – Люсей. Она принялась натирать ему колени горячей чудодейственной мазью. Боль исчезла полностью, по ногам и телу расплылась теплота, появилось острое и горячее желание, и незнакомка возлегла с ним.
Выспавшись, он проснулся бодрым и радостным. Хотелось повторить произошедшее, но увлекаться морфием, знаете ли, не следует. Однажды в Киеве они с Тасей любопытства ради пробовали кокаин, ее рвало, его посетили приятные ощущения свободы, но повторять ни он, ни тем более она не стали, проявив благоразумие. Теперь же он только и ждал случая, когда понадобится заглушить боль и снова впрыснуть морфий. Но случай не представлялся, и однажды, испытав припадок ненависти к больнице, к тупым пациентам, к жене и своей нескладывающейся судьбе, доктор Булгаков взял да и впрыснул себе в бедро один сантиграмм. А чем тебе муки душевные легче болей телесных? Ему стало хорошо, охватило предчувствие любовного свидания, он лег и уснул. Обворожительная брюнетка появилась не сразу, игриво погрозила пальчиком, мол, ведь сегодня у вас никаких болей, но, поупрямившись, вновь разделила с ним ложе. А проснувшись, он увидел себя в объятьях Таси, которая сладко простонала:
– Ты был сегодня такой… Даже я ошалела…
Он дал себе слово: никаких белых кристаллов! Пошалил, и хватит, не то плохо кончится. Выдержал неделю и снова вколол. На сей раз обворожительница явилась сердитая, дразнила его, дразнила да и убежала. Недовольный третьим сеансом, он недолго боролся с искушением и на четвертый день впрыснул, увеличив дозу до двух сантиграммов. Ощущение свободы и радости теперь оказалось не таким, как раньше, он вожделел, но искусительная брюнетка смеялась и махала ему рукой, сидя в уезжающем кабриолете. И теперь он проснулся злой и несчастный, попытался себя утешить: четыре укола еще не страшны. Пятого надо уже избежать.
Но не избежал и через три дня сдался. Дальнейшее покатилось в черную мглу. Доза росла – три сантиграмма, четыре, пять. Его поламывало и поколачивало, новый укол приносил облегчение, но ничего более, никаких ирреальных свиданий. Искусительница вообще больше не появлялась, а мерещились какие-то углы, в которые он тыкался и не мог из них выйти. А желания разрастались, становились невыносимыми, и он, как бешеный, по многу раз наваливался на жену. Бедная, она-то подумала, что к нему вернулась любовь, раз такая необузданная страсть откуда ни возьмись, но через месяц застала его за уколом и в ужасе отшатнулась:
– Батюшки! Миша! А я-то думаю, отчего ты стал бледный, по сторонам озираешься, как воришка. И давно? С тех пленок?
– Тебя это никак не касается. Да, с того дня.
– И сколько колешь?
– Децл, – признался он, имея в виду, что от сантиграммов уже перешел к дециграммам.
Вскоре приехали в Никольское теща и два шурина. Евгения Викторовна сразу отметила:
– Зятек мой нездоров, что ли?
Булгаков ей не нравился, и еще со времен знакомства с ним дочери она делала все, чтобы воспрепятствовать союзу, и теперь выказывала недовольство всем, чем только можно.
– Устает, бедняга, – жалеющим голосом ответила Тася. – Таких врачей, как он, раз, два и обчелся, приходится за всех отдуваться.
Но по осени скрывать определенные признаки морфинизма стало трудно, особенно от знающего медперсонала. К тому же ничем не объяснимая убыль морфия.
– И нечего на меня так смотреть! – обозлился доктор Булгаков на своего ассистента-фельдшера. – В Европе половина врачей вынуждены прибегать к инъекциям, дабы избежать психических расстройств. Профессия наша такая… – И выругался.
К счастью, в середине сентября пришло одобрительное решение, хоть и не в Москву, но прочь из Никольского – в Вязьму. Пусть не губернский, однако все же хотя бы уездный город. Михаил Афанасьевич получил должность заведующего инфекционным и венерическим отделениями. В общей сложности тридцать коек из семидесяти на всю больницу. Фигура? Безусловно. Теперь нельзя, теперь срочно нужно бросить! Да и больница – не то что в Никольском. Великолепная операционная с автоклавом, снабженная всеми необходимыми инструментами, хорошая аптека, лаборатория с цейссовским микроскопом и запасом красок. Немедленно бросить! Прощальный укол, и – адье!
Переехав в Вязьму, поселились в трехкомнатной квартире, обставились скромненько, но уютно, вместо керосиновых ламп долгожданное электричество, в соседнем доме живут фельдшеры.
– Мишенька, давай заживем здесь по-новому!
А вскоре и вся страна зажила совершенно по-новому – грянул великий и ужасный Октябрь! Мир переворачивался вверх дном. В Вязьме не шли бои, не гремели орудия, не летели осколками стекла окон, но большинство больных – будто взбесившиеся, орут, кулаками машут, грозятся кому-то за что-то содрать шкуру и в соли извалять, кости переломать, башку проломить. То и дело пациенты с колотыми и резаными ранами, но, слава богу, не к заведующему заразным и венерическим, у него все по-прежнему. Вот только и недуг прежний. И каждый новый укол прощальный, а этих уколов уже по два в сутки, и не по децлу, а по грамму. И уколы не приносят счастья, а лишь ощущение, будто до инъекции стоишь в горящей печи, а укололся и встал на краю, где печет, но терпимо.
В больнице первыми все поняли фельдшеры Чоп и Сосновская, потом – заведующий хирургией Тихомиров, а последним дошло до главврача по фамилии Нурок.
– Ну, что мы будем с вами делать, милейший? – спросил он.
– Борис Леопольдович, в Европе…
– Половина врачей. Мне уже сказали, что вы оправдываете себя сим сомнительным фактом. Сколько сейчас впрыскиваете?
– Два раза в день по два грамма.
– Если так продолжится, к весне вы не сможете продолжать врачебную практику. Постарайтесь бросить. Доза приличная, но и с нее еще не поздно спрыгнуть.
И ему припомнилось, как они с приятелями лет в двенадцать развлекались в Киеве. На железной дороге нашли место, где товарные поезда тормозили и некоторое время стояли. Нужно было залезть на вагон-платформу и, дождавшись, когда товарняк тронется, спрыгивать. Побеждал тот, кто спрыгнет последним, рискуя, что поезд разгонится и уже прыгать будет поздно. Иным, не успевшим, приходилось ехать до ближайшей остановки товарняка и оттуда пешком долго добираться до дома. Гимназист Булгаков чаще всего спрыгивал одним из первых, но однажды выдержал и стал победителем, хоть и вывихнул ногу. Глупая и опасная игра так и называлась:
– Айда, братцы, играть в «Спрыгни»!
И теперь он все еще сидел на платформе, а она все разгонялась, и вот-вот спрыгнуть будет поздно…
Почему-то, когда начинаются революции, кончаются дрова! Как будто лес контрреволюционен и не хочет снабжать людей при таких политических обстоятельствах. И тогда в Вязьме, со всех сторон окруженной лесами, стало трудно достать дров, а уже с начала ноября наступила стужа.
– Есть нечего, в квартире холодно, – плакала Тася. – Это может скверно отразиться на ребенке.
– Что-что? На каком ребенке?
– На нашем. А ты не заметил, что у меня давно уже не было месячных?
– Немедленно обследоваться!
И он лично провел обследование.
– Судя по всему, не менее двенадцати недель. Стоит поторопиться.
– Куда поторопиться? – сердито возмутилась Тася. – Я не собираюсь никуда торопиться. Второй раз не буду!
– Не будешь… – потупился он. – Ты права. Нам нужен ребенок. Дрова я достану. Мне двадцать шесть, тебе скоро двадцать пять. Самое время обзавестись.
– Ты правда не против?
– Конечно. У мужа и жены должны быть дети. Семья без детей – что улей без пчел. Я достану дров и пропитания.
– И к тому же это простимулирует тебя.
– Простимулирует?
– Даст толчок. Ты должен заставить себя ради ребенка.
К этому времени он уже давно не помнил, сколько раз вводил себе морфий, даже не помнил, сколько было прощальных инъекций. Где-то в сентябре от однопроцентного раствора он перешел на двухпроцентный, в октябре – на трехпроцентный, а теперь делал два трехпроцентных шприца, а это уже много. Скоро спрыгивать станет совсем поздно!
– Я всегда воспитывал в себе силу воли. Готов собрать ее в кулак.
Он продержался сутки. Во имя ребенка. Но сорвался. Потом снова пытался собрать в кулак всю свою силу воли. Появлялось раздражение, переходившее в лютую злобу.
Пытаясь смирить эту злость, задыхаясь, попросил жену присесть для серьезного разговора.
– Я не хотел тебя огорчать сразу. Ты знаешь, что вот уже четвертый месяц, как я морфинист. И зачатие произошло, скорее всего, когда я был под инъекцией.
– Я ничего не хочу слышать!
– А я ничего от тебя не требую. Но послушай. Заячья губа – лучшее, что может случиться. Врубель даже изобразил своего малыша с заячьей губой. Ты помнишь эту пронзительную до слез картину? Малыш Врубеля недолго прожил. Чаще выживают, но страдают тяжелыми нервными и психическими расстройствами. Здоровье ни к черту. Враждебно настроены по отношению к окружающим. Но и это не все. Бывают случаи, когда рождаются без ручек или без ножек. А то – и без ручек, и без ножек. Или с атрофированными. С дырой вместо носа. Или макроцефалы.
– Макроцефалы? – в ужасе переспросила Тася.
– Люди с маленьким туловищем, но гигантской головой. Возможно, нас Бог милует, ребенок родится с руками и ногами, но в дальнейшем последствия все равно скажутся.
Она заплакала. И плакала три дня. А он попытался перехитрить морфий, делать не два трехпроцентных, а три двухпроцентных. Но этого уже казалось мало.
Больше всего сломило бедную Тасю слово «макроцефал». В нем тоже слышалось страшное слово «морфий». Она даже нашла в больничной библиотеке книгу про макроцефалию и посмотрела там иллюстрации, да еще фамилия автора такая пугающая – Эршрак. Это ее добило:
– Да, ты прав. Может случиться непоправимое.
– Думаешь, я не хочу ребенка? Очень хочу. Но я излечусь, и тогда…
– Где ты предлагаешь это сделать? Я до сих пор содрогаюсь после того первого раза. Так стыдно, страшно, больно. Какая-то беспросветность. И где-то остается в записях, любой может прочитать. Гадко, гадко!
– Я мог бы это сделать, и никто не узнает… Хотя…
– С ума сошел?! Своими руками своего собственного ребенка!
– Да, ты права. Я сгоряча, не подумав.
– Ужас! Миша!
– Конечно, конечно. Надо подумать. Что-нибудь придумаем, малыш.
Она с удивлением на него уставилась:
– Это ты мне или малышу?
– Тебе, конечно.
– Просто ты раньше не называл меня малышом.
И обоим стало жутко до дрожи. Оба замолкли, как двое злоумышленников, принявших решение убить человека.
Доктор Булгаков несколько раз в Никольском и Вязьме негласно, хоть и не тайно, делал аборты. Но своей рукой убить своего эмбриона… Это он и впрямь ляпнул, не подумав! Хотя по-прежнему не считал зародыш человеком, уверенный, что человеческое в нем появляется лишь после двадцати недель, когда и аборт становится невозможным.
Право окончательного решения он предоставил Татьяне, и вскоре она поехала в Москву. Едва вышла из Александровского вокзала, ей навстречу выступила огромная похоронная процессия, бичуемая ветром и каплями дождя.
– Кого хоронят? – в ужасе спросила она.
– Убитую Россию, – ответил ей кто-то, а другой пояснил:
– Юнкеров. Павших за свободу Родины от рук подонков.
Ей пришлось долго стоять, прижавшись к стене дома, слушая «Со святыми упокой», марш пленников из «Набукко», моцартовскую «Лакримозу», шопеновский похоронный марш, как будто уже хоронили ее еще не убитого, но уже приговоренного к смерти ребенка. Когда похоронная процессия прошла дальше на Петербургское шоссе, Таня хотела вернуться на вокзал и поехать обратно в Вязьму, но страшный макроцефал снова всплыл в голове. И она пошла по Тверской-Ямской в центр Москвы, где ее встретили израненные пулями здания, а иные и вовсе изуродованные, как будто без руки или без ноги. От изгвазданного ранениями Страстного монастыря она свернула на Тверской бульвар, шла, а в ушах звучала надрывная похоронная музыка. Здесь ей наконец попался извозчик, и она доехала до Пречистенки, которая тоже вся зияла пробоинами, включая и дом Мишиного дяди на углу Обухова переулка.
Николай Михайлович принял ее строго, выслушал, она во всем призналась ему. Он тяжело вздохнул и почему-то пропел:
– От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей… М-да-с… Нехорошо. Как ни крути, а там у вас мой внучатый племянник или внучатая племянница. Нехорошо. Я, маменька, приглашу другого доктора. Тоже хорошего. Вы не волнуйтесь. Все сделает чисто. И без огласки. Но вы тоже, голуби сизокрылые, нашли время!
Она вернулась в Вязьму опустошенная во всех смыслах.
– Вот что, дружок, – сказала с ненавистью, – либо ты с этим морфием приканчиваешь, либо…

Медная табличка на тротуаре рядом с домом на Пречистенке, 21/1
[Фото автора]
– Либо что?
– Либо я приму яд.
Но он не прикончил, а она не приняла яд.
В декабре мир превратился в черный туман. Уже давно ушли в прошлое дикие желания, одолевавшие его в первые месяцы дружбы с алкалоидом опия, он же морфий, в честь бога Морфея. Зимой в нем угасли любые мужские проявления. Он старался не заглядывать в зеркала, из которых белыми глазами на него смотрел дьявол, вселившийся в мертвое тело доктора Булгакова. Он стал туго соображать, по многу раз ходил без толку в туалет, крошились зубы, стали ломкими ногти, выпадали волосы. Мало ел, плохо спал, то страдал сухостью всего организма, а то нападала потливость. Часто зевал, постоянно чихал. Временами становилось жалко весь мир и себя в нем, и потоки слез исторгались из глаз. Но почти постоянно его держала, не выпуская, сатанинская раздражительность, злоба, изливаемая больше всего на бедную Тасю. Из-за дрожания рук он уже не мог самостоятельно делать себе инъекции, она рыдала и отказывалась, а он орал на нее зверски и принуждал колоть и колоть, теперь уже три раза в день по три шприца, в каждом по три грамма. Доза, с которой, как свидетельствовали книги, уже не соскочить, можно только увеличивать и увеличивать, покуда не сдохнешь. Но на этой стадии, уверяли страницы, можно держаться год, а то и два. И только потом третья стадия, завершающаяся выносом тела.
– Раз так, то я с тобой, – сказала Таня. – Впрысни мне тоже, у меня страшная боль под ложечкой.
– Не надо!
– Тогда я сама.
Но протянула шприц ему, и он впрыснул ей тот мизерный процент, с которого сам начинал летом. У Тани закружилась голова, она упала в кровать и уснула, а потом ее долго рвало, и больше она колоть себе проклятое зелье не желала. И по аптекам ходить отказывалась. Лишь когда он у ног ее стал валяться и туфли целовать, сдалась: будь что будет, видать, уж таков конец. Во всех вяземских аптеках ее знали и жалели. И ад продолжался.
– Только в больницу меня не отдавай, умоляю, – просил он со слезой. – Лучше на твоих руках умру. Но нужно найти средство, найти средство. Необычное. Чтобы спрыгнуть.
И оно вдруг нашлось. Или это он сам себя уверил, что нашел.
– Нет, морфýшка, я не твой! – сказал он однажды зеркалу и расхохотался, до того смешным показалось прозвище, данное им только что своему злому господину и богу Морфию. – Морфýшка! Гляньте на него! Ах-ха-ха! Морфýшка! Мы думали, он непобедимый огненный змей, а он всего-то навсего – морфýшка! Не демон, не бес, а всего лишь бесенок.
И с того дня медленно доктор Булгаков стал возвращаться из плена, уверовав в силу слова. Ту силу, с помощью которой Иисус Навин останавливал солнце, а Иисус Христос – воскрешал Лазаря.
Глава четвертая
Нецелесообразность
1939
– Никуда не поеду. Я болен. Я умер. Меня нет, – сказал Булгаков, проснувшись.
Она хотела расшторить окна, но он остро почувствовал, как снаружи сразу хлынет Москва, прильнет к окнам, примется глазеть: что там Булгаков, жив, прохвост, али уже сдох?
– Ни-ни-ни! Ты не представляешь, как мертвеца раздражает солнечный свет.
– Мишка! Прекращай! Ну что за упадничество!
– Это, Люся, не упадничество. Это – нецелесообразность. Помнишь то первое, что я спросил тебя в первый день нашего знакомства?
– Да помню, помню.
– Я нецелесообразный человек, Люсенька. Как ты, с твоей колдовской интуицией, не разглядела этого тогда?
– Разглядела, разглядела. Только я подумала: «Жаль, что с этим человеком я так поздно встретилась, что потеряны годы и годы!»
– И что мы тратили себя на других… Впрочем, мы уже столько раз с тобой говорили об этом. Мне кажется, только об этом мы и говорили всю жизнь.
– Ну, прямо уж только об этом!
Он вяло позавтракал, слегка поклевал каши и снова улегся в затемненной спальне, она же и кабинет. Так и не появилось у него собственного кабинета. Однажды он пожаловался второй жене: «У Достоевского-то всюду был собственный кабинет!» А она ему, не моргнув глазом: «Ну ты же не Достоевский!» И, как корова языком, слизнула добрую половину всего хорошего, что накопилось у них за семь лет совместной жизни.
Стал зачем-то перечитывать этот растреклятый «Батум», и тошнота отвращения охватила его так, что голова разболелась сильнее прежнего. А ведь недавно он сам ухохатывался, когда читал вслух, как Сталин, выслушав постановление о его отчислении из Тифлисской духовной семинарии, ляпнул: «Аминь!» Его воротило от пьесы, еще вчера обещавшей ему возрождение и восхождение, но он с омерзением дочитал ее до конца и швырнул на пол.
– Мишенька, что на обед приготовить? – спросила Елена Сергеевна.
– Обед – это не важно, – ответил он словами Сталина из пьесы. – Тут есть более существенный вопрос.
– Какой же?
– Сталину в моей пьесе цыганка за рубль нагадала, что он станет великим человеком. И он стал. Мне тоже в юности цыганка за рубль напророчила великое будущее. И вот мне уже под пятьдесят…
– Дорогуша, Сталин твой только после пятидесяти возвеличился. А вспомни, как все было зыбко, когда мы с тобой познакомились. Только что тогда Троцкого выдворили. Вот когда Сталин встал крепко на ноги.
Часа в три позвонил Виленкин.
– Скажи ему, что я болен, лежу, не встаю, никуда прийти не в состоянии.
– Он спрашивает, не надо ли доктора?
– Напомни ему, что я сам доктор. Ишь ты, доктора… Нет лучше доктора, чем тот, кто навеки освобождает людишек от болезненной жизни.
Потом позвонил Калишьян, чья фамилия уже навеки вписалась черными буквами в скрижаль вчерашней страшной телеграммы.
– Спрашивает: может быть, я приду?
– Хочешь, иди.
Вечером пришел Борис Эрдман, с которым они сто лет дружили, пришлось встать, одеться, сесть за стол ужинать. Но ни есть, ни беседовать не хотелось. И на другой день никуда никто не поехал. Через день явились Сахновский и Виленкин, хотели выглядеть бодрячками, но вести, явившиеся вместе с ними, никакой бодрости не внушали.
– Запрещено и к постановке, и к публикации, – мямлил Сахновский. – Как мы и думали. Короче говоря, решили, что образ Сталина на сцене не… не…
– Нецелесообразен, – хмыкнул Михаил Афанасьевич.
– Ну, что-то типа того. В кино можно переснять, а на театре…
– Нажрется актер, и всем крышка, – злобненько засмеялся Булгаков. – Первым вахтера расстреляют – видел же, что товарищ Шаляйваляев, играющий Сталина, в зюзю, как пропустил, босявка?! Потом меня к стенке поставят: знал же, гнида, что роль Сталина может достаться Шаляйваляеву, зачем писал, вражина?! И полетят головушки…
Сахновский возложил растопыренную ладонь себе на грудь:
– Должен уверить, Михаил Афанасьевич, что коллектив театра не меняет своего доброго отношения ни к вам, ни к вашей замечательной пьесе.
– Замечательной? – вскинул бровь драматург.
– Безусловно, – ответил Виленкин. – Заверяю вас как театровед.
– А я тут перечитал и ужаснулся. Полное дерьмо! – припечатал самого себя Булгаков.
Все переглянулись и ничего не возразили, а Сахновский заговорил про иное:
– Кроме того, коллектив уполномочил меня сообщить, что все деньги, согласно договору, будут уплóчены.
– Выплачены, – поправил театровед.
– Выплаканы, – исказил ехидный драматург.
– Извините, – возразил Сахновский. – Это вам не слезки. Деньги хорошие.
– А что насчет квартиры? – спросил Михаил Афанасьевич.
– И квартира, – замявшись, ответил Сахновский.
Театр обещал не только гонорар, а еще и квартиру новую пробить. Здесь Булгаков уже изнывал – постоянные мелкие и не очень мелкие ремонты, звукопроницаемость такая, что он называл ее жуткопроницаемостью, слышно все, о чем говорят и о чем ссорятся внизу и вверху, слева и справа. Да и личный писательский кабинет не помешает, хоть он, как известно, и не Достоевский.
– Я только одного не понимаю, – усмехнулся Булгаков. – Ставить нельзя, а почему публиковать-то нельзя? В книге-то Сталин не нажрется.
Сахновский на слово «выплаканы» явно обиделся:
– Не хотел вам говорить, Михаил Афанасьевич, но в ЦК почему-то решили, что вы пьесу написали не по воле сердца, а лишь для того, чтобы наладить мостик между вами и руководством страны.
– Так и есть, – фыркнул Булгаков.
– Ничего не «так и есть»! – возмутилась жена. – Это возмутительное и бездоказательное обвинение. Никакого моста Михаил Афанасьевич не думал перебрасывать, а просто хотел… Просто хотел, как драматург, написать пьесу. Интересную для него по материалу, с сильным героем. И чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене! А то, знаете ли, недовольны были, что он о побежденных белогвардейцах пишет, а теперь написал о Сталине – опять подозревают!
– Словом, я высказал все, что должен был, – все больше обижаясь, произнес Сахновский и откланялся. Вместо него вскоре явился сотрудник мхатовской дирекции Леонтьев, стали обедать, и Булгаков вдруг предложил:
– А может, мне опять ему лично написать письмо?
– Поздно, – возразил Эрдман. – В городе уже все знают.
Через пару дней пришло сообщение, что Сталин лично звонил Немировичу-Данченко и сказал: «Все дети и юноши одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине».
– Чушь какая! – фыркнул Булгаков. – Не мог умный человек такую глупость ляпнуть.
Когда в гости сразу с поезда из Одессы приехал Ермолинский, Елена Сергеевна пожаловалась ему на то, что Михаил Афанасьевич разочаровался в собственной пьесе.
В Мансуровском переулке стоял весьма провинциальный для Москвы пятиоконный особнячок, снаружи неказистый, но внутри щеголял великолепными изразцовыми печками, а в белокаменном полуподвале создавал неизъяснимый уют огромный камин. Владельцы особняка братья Топлениновы были людьми искусства, старший Владимир – актер разных московских театров, младший Сергей – художник Малого театра и МХАТа. Они сдали полуподвал киносценаристу Сергею Ермолинскому, с которым Булгаков познакомился, приходил к нему в гости, резался в шахматы, а в погожие зимние деньки от особняка они спускались на лыжах до Москвы-реки и по сверкающему заснеженному льду отправлялись в Нескучный сад и на Воробьевы горы. В основном они так и общались – лыжными разговорами. Вскоре белокаменный полуподвал сделался в судьбе Булгакова особенным местом, а потом он поселил в этом полуподвале своего Мастера.