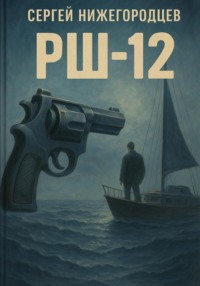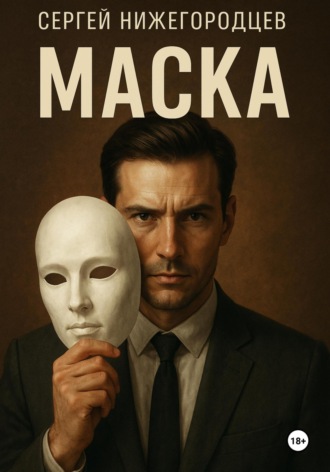
Полная версия
Маска
Но потом вспоминаю пустоту в глазах тех людей. И понимаю, что сделал правильный выбор.
Даже если этот выбор привёл меня сюда – в гостиничный номер, с фальшивой личностью и заданием.
Стоя перед зеркалом в номере, я всматривался в собственные глаза. Там, в глубине, жил человек, которого я знал лучше всех и одновременно не знал совсем. Александр Прокопенко. Саша. Агент под прикрытием.
Многие не понимали моего выбора. Перспективный выпускник с блестящим будущим, выбравший полевую работу вместо кабинетной карьеры. Работу, где приходится жить чужими жизнями, спать с открытыми глазами, не доверять даже собственной тени.
Но у меня не было выбора. Не после той ночи разделилившую мою жизнь на "до" и "после". Когда мой отец использовал свои связи, чтобы замять дело, словно ничего не произошло. Словно погубленная жизнь ничего не стоила.
Тогда я впервые увидел систему изнутри. Увидел, как работают эти невидимые нити власти и привилегий. Как легко стереть правду, если у тебя достаточно денег и связей. И понял, что никогда не смогу стать частью этого механизма.
В поле всё иначе. Здесь нет места фальши – она убивает быстрее пули. Здесь ты либо настоящий, либо мёртвый. Может, не физически – но что ещё хуже, морально. Духовно. Становишься пустой оболочкой с мёртвыми глазами.
Я видел таких людей. Они сидели в дорогих кабинетах, подписывали важные бумаги, улыбались на камеры. А внутри – пустота. Черная дыра вместо души. Сожранные собственной ложью.
Полевая работа давала мне иллюзию искупления. Здесь я мог смотреть правде в глаза, какой бы уродливой она ни была. Мог делать что-то настоящее, пусть и из тени. Мог спасать тех, кого ещё можно спасти.
Пальцы машинально коснулись шрама на груди – тонкая белая линия, память о первой серьёзной операции. Боль напоминала: я живой. Настоящий. Не пустая оболочка в дорогом костюме.
– Мы все выбираем свой ад, – пробормотал я, отворачиваясь от зеркала. – Я выбрал тот, в котором могу дышать.
Застегнул пиджак. Проверил все ли взял. Телефон. Документы. Пора было идти на встречу с Поляковым. Очередная роль в бесконечной пьесе, где единственная правда – это ложь.
Выходя из отеля, я столкнулся с группой японских туристов. Они щебетали, как стайка воробьёв, фотографируя всё подряд. Один из них, низенький мужчина с огромной камерой, попросил меня сфотографировать их на фоне вывески. Я улыбнулся – дежурно, профессионально – и сделал несколько снимков.
– Вы похожи на политика, – неожиданно сказал японец на ломаном русском, забирая камеру. – Очень… авторитетный.
Я поблагодарил его коротким кивком и двинулся к ждавшему такси. Эта фраза задела что-то глубоко внутри. Не первый раз слышу подобное.
Помню, на третьем курсе Академии, после моего выступления на студенческой конференции, Маркин – вечно ироничный однокурсник – хлопнул меня по плечу.
– Ты бы в президенты пошёл, Прокопенко. Не улыбаешься, говоришь точно, народ бы поверил.
Все тогда рассмеялись. Я тоже. Но с годами эта шутка перестала казаться забавной.
Потому что я понял: Маркин был прав. Я мог бы. Внешность, манера говорить, аналитический склад ума, семейные связи – всё сложилось бы. Политическая карьера открывалась передо мной, как красная дорожка.
Но что на её конце? Власть? Признание? Возможность изменить страну?
В такси я открыл ноутбук, пробежался глазами по новостной ленте. Очередной чиновник пойман на взятке. Очередное громкое заявление. Очередное обещание светлого будущего.
Система пожирала своих детей с аппетитом крокодила, а затем рождала новых – точно таких же. Власть без правды. Власть ради власти.
Я закрыл ноутбук, глядя на проплывающий за окном город. Нет, мне это неинтересно. Власть, построенная на страхе и лести, превращает даже самых идеалистичных людей в монстров. Я видел этот процесс слишком часто, чтобы верить в исключения.
Вспомнил лицо отца, когда он сообщил мне, что "всё решено". Никакого суда. Никакой ответственности. Просто связи, деньги, власть.
– Система работает на тех, кто её контролирует, – сказал тогда отец. – Запомни это.
Я запомнил. И поклялся никогда не становиться частью этой системы. Даже если ценой будет одиночество, опасность, жизнь в тени.
Даже если ценой будет президентское кресло, о котором не шутил Маркин.
Я остановился перед входом в ресторан «Белуга». Тонированные стекла отражали моё лицо – маску, отточенную годами практики. Но за этой маской что-то менялось. Что-то, чего я не мог контролировать.
Её глаза. Катины глаза всплыли в памяти так неожиданно, что я едва не вздрогнул. Ясные, внимательные. Глаза, которые смотрели сквозь мою идеально выверенную легенду.
Я отвернулся от своего отражения, раздражённый этим непрошеным воспоминанием. Сейчас не время. У меня встреча с Поляковым. Задание. Цель. Всё остальное – помехи.
И всё же… что-то в её взгляде зацепило меня глубже, чем следовало. Не профессиональный интерес, не стратегическая необходимость. Что-то почти забытое – ощущение, что кто-то видит настоящего тебя. Не роль, не маску, не легенду. Тебя.
Сколько лет прошло с тех пор, как кто-то смотрел на меня так? Не на Александра Прокопенко, успешного инвестора. Не на агента под прикрытием. На Сашу – человека, которого я сам почти забыл.
Я достал телефон, открыл её досье снова. Екатерина Власова. Тридцать три года. Бывший оперативник МВД. Сухие факты, строчки биографии. Ничего, что объяснило бы, почему я не могу выбросить её из головы.
Может быть, дело в том, как она держалась? В этой смеси профессионализма и скрытой уязвимости. В том, как напряглись её плечи, когда я заговорил с ней. В том, как она отвечала – коротко, по делу, но с каким-то внутренним огнём.
Я закрыл досье. Убрал телефон. Эти мысли непозволительны. Непрофессиональны. Опасны.
У меня нет права на личный интерес. Не к ней. Не сейчас. Не когда на кону стоит операция. Не когда любая ошибка может стоить жизни невинным людям.
И всё же… её глаза. Как светлая точка в мутном потоке лжи и притворства, в котором я существовал последние годы.
Я глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. Поправил галстук. Вернул на лицо привычное выражение уверенности и спокойствия. Пора. Поляков ждёт.
Но где-то глубоко внутри, за всеми барьерами и щитами, которые я выстроил вокруг себя, теплилась мысль: я вернусь в казино. Увижу её снова. И, может быть, пойму, почему она так странно на меня действует.
А пока – работа. Единственное, что имеет значение. Единственное, что я умею делать по-настоящему хорошо.
Глава 5: Лидия Михайловна
Понедельник начался, как обычно – шум будильника, скрип старых половиц под ногами, привычная утренняя боль в суставах. Сорок лет в медицине научили меня просыпаться мгновенно, даже если тело просило ещё пять минут сна.
Каша булькала на плите, пока я заваривала чай. Всё как по часам – семь утра, пар от чайника, запах гречки с маслом. Кухонные часы отстукивали секунды, напоминая о времени, которое летит слишком быстро.
– Артёмка, вставай, соня! – позвала я, выкладывая кашу в тарелку с космонавтами. – В школу опоздаешь!
Послышалось недовольное бурчание, а затем шлёпанье босых ног по коридору. Мой внук, растрёпанный и сонный, появился на пороге кухни, сжимая в руках какую-то книжку.
– Бабуль, а ты знаешь, что чёрные дыры могут поглотить целую галактику? – вместо приветствия спросил он, плюхаясь на стул.
– Доброе утро и тебе, астроном, – улыбнулась я, поставив перед ним тарелку. – Сначала каша, потом космос.
Артём принялся есть, одновременно листая свою книгу и рассказывая о звёздах, планетах и чёрных дырах. Я слушала вполуха, поправляя ему воротник рубашки и проверяя, чтобы носки были надеты правильно – не наизнанку, как в прошлый раз.
Смотрела на него и думала – как же он похож на Катю в детстве. Те же вихры, та же привычка говорить с набитым ртом, та же страсть к космосу. Катенька тоже мечтала стать космонавтом, пока жизнь не развернула её совсем в другую сторону.
– А мама когда приедет? – вдруг спросил Артём, прерывая свой монолог о Сатурне.
Что-то кольнуло под сердцем. Вот уже третий месяц, как Катя звонит только по выходным. Говорит коротко, сухо – работа, командировки, всё в порядке. А в голосе – металл и усталость.
– Скоро, золотко, – соврала я, гладя его по голове. – У мамы очень важная работа.
Артём кивнул, словно понимал, хотя куда ему понять. 7 лет – это когда ещё веришь, что мама – самая главная в мире, даже если видишь её раз в месяц.
– Она нас защищает, да? – спросил он, поднимая на меня глаза – Катины глаза.
– Да, милый. Она защищает.
Только вот кто защитит её саму? Кто обнимет, когда страшно? Кто скажет – всё будет хорошо, Катюша?
Я смотрела, как Артём доедает кашу, и молилась, чтобы дочь вернулась целой. Чтобы однажды этот ребёнок проснулся и побежал не ко мне, а к той, кто должен быть рядом.
После завтрака и сборов в школу мы с Артёмом, как обычно, успели на последнюю минуту. Он вбежал в класс, когда прозвенел звонок, а я помахала ему через стеклянную дверь. Учительница улыбнулась мне, и я пошла домой – делать уборку, готовить обед, стирать, гладить. Обычные дела, заполняющие пустоту.
Вечером, после ужина и проверки уроков, настало время нашего еженедельного ритуала. Артём нетерпеливо устроился на диване, прижимая к груди планшет.
– Бабуль, скорее! Уже семь! Мама будет звонить!
Я присела рядом, чувствуя, как учащается пульс. Странно, что даже в моём возрасте сердце может так волноваться перед встречей с собственной дочерью.
Экран ожил, и вот она – моя Катя. Волосы собраны в строгий хвост, на лице – привычная сдержанность. Профессионал до кончиков ногтей.
– Мама! – закричал Артём, подпрыгивая на диване. – Мамочка, привет!
– Привет, космонавт, – улыбнулась Катя, и я увидела, как напряжение на её лице чуть отступило. – Как твои дела? Как школа?
Артём прижался к экрану, словно пытаясь пролезть сквозь стекло, чтобы обнять её. Я смотрела на них и чувствовала, как в груди разливается тепло. Моя девочка. Моя. Сильная, красивая, упрямая – вся в меня.
– Мама, я получил пятёрку по окружающему миру! И мы с бабушкой ходили в планетарий на выходных! Там показывали Марс и Венеру, и знаешь что? Я решил, что буду астрофизиком!
Катя рассмеялась, и я поймала себя на мысли, что давно не слышала её смеха.
– А как ты, мама? – спросила она, когда Артём перевёл дыхание.
– Всё хорошо, – ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. – Погода налаживается, в саду помидоры пошли. Артём помогает.
Я не стала говорить, что ночами плохо сплю, прислушиваясь к каждому шороху. Не сказала, что вчера перебирала её детские фотографии и плакала. Не призналась, как скучаю.
Катя кивнула, и на мгновение в её глазах промелькнуло что-то – тревога? усталость? Но она быстро вернула себе контроль.
– У тебя всё… нормально? – осторожно спросила я.
– Всё отлично, мама. Просто работа, – она улыбнулась, но я-то знала эту улыбку.
Гордость и боль переплелись внутри меня. Гордость за дочь, которая никогда не сдаётся. И боль от невозможности защитить её, как раньше.
Когда Артём потянулся за третьей ложкой клубничного варенья, я не смогла сказать "нет". Его пальцы, испачканные в сладком соке, заставили меня улыбнуться.
– Бабуль, можно ещё немножко? – его глаза светились детской жадностью к сладкому.
– Конечно, золотко, – я подвинула банку ближе.
А у нас варенье было только на праздник. И то – из крыжовника. Кислое, с толстой кожицей, которую мама не успевала срезать из-за усталости. Помню, как сидели мы на кухне коммуналки – пятеро детей, прижавшись друг к другу на скрипучей скамейке. Ждали, когда мама принесёт хлеб. Вернётся с ночной смены и принесёт буханку. И это было событием.
Хлеб был свежий – а это было уже счастье. Хрустящая корочка, тёплый мякиш. Мы делили его по кусочку, стараясь растянуть удовольствие. Никакого варенья – просто хлеб.
– Бабуль, а почему ты так смотришь? – Артём прервал мои воспоминания.
– Просто вспомнила своё детство, – я погладила его по голове. – Знаешь, мы жили совсем иначе.
Помню, как наша учительница, Мария Степановна, говорила: «Последнюю крошку в ладошку сметаем со стола и в рот – хлеб – всему голова». И мы верили. Каждую крошку собирали, ни одной не оставляли.
А сейчас смотрю, как Артём небрежно откусывает бутерброд, оставляя недоеденные кусочки, и думаю – хорошо, что он не знает того голода. Не знает, каково это – ждать, когда тебе достанется очередь надеть единственные колготки на троих сестёр.
У нас была одна пара колготок. И одна зимняя шуба. Не «на выход» – на всё. Старшая сестра шла в школу первой, возвращалась – передавала шубу мне. Я бежала в свою смену, потом младшая. Мы не жаловались – так жили все.
– Бабуль, а что такого было в твоём детстве? – Артём облизал ложку и внимательно посмотрел на меня.
Я не стала рассказывать ему о коммуналке с одним туалетом на двенадцать семей. О том, как мы мылись раз в неделю в общественной бане. О том, как мечтали о мандаринах на Новый год.
– В моём детстве, Тёмушка, мы умели радоваться простым вещам, – сказала я, вытирая варенье с его подбородка. – И, знаешь, это было настоящее богатство.
Вечером, когда Артём уже спал, я села у окна с чашкой чая. За стеклом шумел дождь, размывая огни соседних домов. Мысли о Кате не давали покоя. Что она скрывает? Почему её глаза потускнели? И когда она наконец вернётся домой – не на день или два, а насовсем?
Утром я обнаружила, что Артём оставил недоеденный бутерброд на столе. Хлеб с маслом – почти нетронутый, только маленький укус с краю. Что-то внутри меня дрогнуло. Рука потянулась к тарелке, пальцы сжались.
– Артём! – позвала я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
Он прибежал с игрушечной ракетой в руках, глаза сияли – в своём воображении он уже был где-то между Марсом и Юпитером.
– Да, бабуль?
– Почему ты не доел? – я указала на бутерброд.
Он пожал плечами с той беззаботностью, которая возможна только в сытом, защищённом детстве.
– Не хочу больше. Можно выбросить?
Моё сердце сжалось. Нет, я не злилась на него – как можно злиться на ребёнка, который никогда не знал голода? Который не стоял в очередях за хлебом в морозный день, не пересчитывал копейки, не плакал от пустоты в желудке?
Я смотрела на его чистое лицо и видела другие лица – истощённые, с запавшими глазами. Лица моего детства, лица послевоенных лет.
– Нет, малыш, – мягко сказала я, забирая тарелку. – Хлеб выбрасывать нельзя.
Я разрезала бутерброд на маленькие кусочки и выложила на блюдце.
– Давай покормим птиц? Они будут рады.
Артём просиял – для него это было приключением. Для меня – способом не выбрасывать хлеб.
Мы вышли на балкон. Воробьи слетелись мгновенно, наполнив воздух радостным чириканьем. Артём смеялся, наблюдая за их суетой.
– Бабуль, а почему нельзя выбрасывать хлеб? – спросил он, когда последние крошки исчезли в маленьких клювах.
Я погладила его по голове, чувствуя под пальцами мягкие волосы – такие же, как у маленькой Кати когда-то.
«Ты даже не знаешь, что это – ждать хлеба. Ты не знаешь, что такое очередь. А я – знаю. И потому ты ешь. Хоть понемногу. Но с благодарностью.» Я не говорю это вслух. Только глажу его по голове.
– Хлеб, Тёмушка, – это не просто еда. Это труд многих людей. Это… уважение к прошлому.
Он кивнул, не понимая до конца, но принимая. И я подумала – может, в этом и есть моя главная задача? Не просто кормить и одевать, но передать что-то важное, что связывает поколения невидимой нитью.
Вечером, когда я готовила ужин, Артём внезапно ворвался на кухню с выражением настоящего отчаяния на лице, словно случилась катастрофа планетарного масштаба.
– Бабушка! У нас интернет тормозит! Я не могу мультик смотреть! – он потряс планшетом перед моим лицом, как будто это могло исправить ситуацию.
Я вытерла руки о передник и посмотрела на него – раскрасневшегося, с дрожащей нижней губой. Такое горе, такая трагедия. Усмехнулась – не зло, а как-то грустно.
– И что же мы будем делать без мультиков? – спросила я, помешивая суп.
– Это нечестно! – продолжал возмущаться Артём. – Я хотел посмотреть про космос, а он загружается и загружается, и ничего не показывает!
Мои мысли унеслись далеко-далеко, в холодную зиму семьдесят девятого. Тогда мы жили в старом доме с печным отоплением. Морозы стояли такие, что птицы замерзали на лету. Электричество отключили на неделю – авария на подстанции. Мы сидели при свечах, закутавшись во все одеяла, которые нашлись в доме. Вода в ведре покрывалась коркой льда к утру.
– Ютюб у них тормозит, – пробормотала я, глядя в окно на современный район с яркими огнями. – А без него – конец света.
– Что, бабуль? – Артём поднял на меня недоумевающий взгляд.
– Говорю, что у нас в детстве и без света было. И без воды. И ничего – выжили.
Он смотрел на меня так, словно я рассказывала о жизни на другой планете. Для него мир без интернета был непостижим, как для меня когда-то – мысль о том, что в каждом доме может быть телефон.
– Без света? А как же телевизор? – серьезно спросил он.
– Какой телевизор, Тёмушка? – я рассмеялась, вспоминая наш первый черно-белый "Рекорд", появившийся, когда мне было уже четырнадцать. – Мы книжки читали. При свечах. А зимой на печке грелись.
Его глаза округлились от удивления, словно я описывала жизнь пещерных людей.
– Знаешь, что я тебе скажу, – я присела рядом с ним, взяв его маленькие ладошки в свои. – У вас сейчас всё есть. Одежда тёплая. Медицина – на уровне. Даже уроки по зуму можно делать, если заболел. Живите и радуйтесь, золотцы.
Артём задумался, глядя на погасший экран планшета.
– А что вы делали, когда было скучно? – спросил он после паузы.
– Скучно? – я улыбнулась. – У нас не было времени скучать. Мы во дворе играли, с друзьями. В казаки-разбойники, в лапту. Или помогали родителям.
Он кивнул, словно принимая какое-то важное решение.
– Бабуль, а давай поиграем в настольную игру? Ту, старую, с фишками?
И я поняла, что, возможно, не всё потеряно для этого нового поколения, выросшего с гаджетами в руках.
Ночь пришла незаметно, как и всегда. Убрала посуду, поцеловала Артёма перед сном, выключила свет в его комнате. Привычный ритуал, который помогает не думать о том, что сердце болит.
Сижу на кухне, перебирая старые фотографии. Вот Катенька в первом классе – с огромными белыми бантами и серьёзным взглядом. А вот она подросток – уже с этой своей прямой спиной и решительным подбородком. Как же быстро ты выросла, доченька. Как быстро ушла.
Если бы я могла написать тебе всё, что думаю. Если бы нашла слова.
Катя, девочка моя. Помнишь, как ты боялась темноты? Как забиралась ко мне в постель после каждого кошмара? А теперь ты сама – та, кто борется с чужими кошмарами. Ты выбрала путь, который я никогда не смогла бы пройти.
Закрываю глаза, и слова текут сами собой – письмо, которое существует только в моём сердце.
Ты сильная. Ты умная. Ты не стала такой, как я – ты стала лучше. Но, Господи, как же мне не хватает, чтобы ты просто вернулась домой. Не на денёк. А – насовсем.
Каждый раз, когда Артём спрашивает о тебе, я улыбаюсь и говорю, что мама скоро приедет. И вижу в его глазах надежду. Он верит мне, Катя. А я верю в тебя.
Твой сын растёт так быстро. Он научился завязывать шнурки, сам читает книжки про космос. Недавно нарисовал семью – себя, меня и тебя. Ты на рисунке выше всех и в какой-то странной форме. Сказал, что ты защищаешь мир. Если бы ты видела его глаза в этот момент!
Чай остыл, но я продолжаю держать чашку в руках. Тепло уходит, как уходят годы. Как ушла ты.
Знаешь, иногда я думаю – может, это я виновата? Может, если бы я была другой матерью, ты бы выбрала другой путь? Не такой опасный, не такой одинокий.
Но потом смотрю на Артёма и вижу в нём твою решимость, твоё упрямство. И понимаю – ты всегда была такой. С самого рождения. Моя маленькая воительница.
Дождь барабанит по окну, словно просится внутрь. Как и мои мысли о тебе, дочка.
Я горжусь тобой, Катенька. Каждый день. Но, пожалуйста, береги себя. Ради нас. Ради сына. Ради себя самой.
И знай – здесь всегда горит свет. Для тебя.
Солнце уже опускалось за крыши домов, когда я зашла в комнату Артёма. Он сидел у окна, склонившись над альбомным листом, и сосредоточенно водил карандашом. Маленькие пальцы крепко сжимали цветные карандаши, а на лице застыло выражение полной погружённости в процесс. Такой серьёзный, такой взрослый – и такой маленький.
– Что рисуешь, золотко? – спросила я, присаживаясь рядом на краешек стула.
Артём не ответил сразу, дорисовывая какую-то деталь. Только когда последняя линия легла на бумагу, он поднял на меня глаза и развернул рисунок.
– Это мы с мамой, – сказал он с гордостью.
На рисунке была женщина в тёмной форме – строгая, прямая, с тёмными волосами, собранными в хвост. Рядом с ней стоял мальчик, держащий её за руку. Они улыбались. Над ними светило большое жёлтое солнце с лучами-палочками, а вокруг были нарисованы какие-то здания.
– Видишь? Это мама на работе, а это я. Когда я подрасту, я буду с ней работать. Мы будем вместе ловить плохих людей.
Что-то сжалось у меня внутри. Я смотрела на этот детский рисунок – такой простой и такой пронзительный. Мальчик, который мечтает не о космосе или футболе, а о том, чтобы просто быть рядом с мамой. Даже если для этого придётся "ловить плохих людей".
Я сжала губы, чтобы не сказать лишнего. Чтобы не выплеснуть на этого ребёнка всю горечь, которая накопилась во мне за эти годы.
– Ты лучше бы просто был рядом, – тихо произнесла я, поправляя ему воротничок футболки. – Не работал. Просто жил бы с ней.
Но Артём уже не слышал меня. Он снова склонился над рисунком, добавляя какие-то детали – может быть, звёзды на погонах Кати, может быть, оружие в кобуре. Он уже был в своём мире – мире, где мама рядом, где они вместе каждый день, а не раз в месяц по выходным.
Я смотрела на его склонённую голову, на вихры, так похожие на Катины, и думала – кто я такая, чтобы разрушать его мечты? Пусть верит. Пусть рисует. Пусть хотя бы на бумаге они будут вместе.
– Когда закончишь, мы отправим фотографию маме, – сказала я, поглаживая его по спине. – Ей будет приятно.
Артём кивнул, не отрываясь от рисунка. А я вышла из комнаты, чувствуя, как предательски щиплет в глазах. Вот так и живём – между надеждой и реальностью, между рисунками и редкими звонками.
Катя, доченька, если бы ты только видела, как он скучает. Как мы оба скучаем.
Когда Артём наконец уснул, я вернулась на кухню – моё убежище, моё поле битвы, моё место силы. Привычные движения успокаивали: протереть стол, помыть чашки, сложить учебники на завтра. Жизнь, расписанная по минутам, чтобы не оставалось времени на мысли.
Но они всё равно приходили. Всегда в одно и то же время – когда дом затихал, когда не нужно было улыбаться и притворяться, что всё хорошо. Когда можно было наконец снять маску.
Я достала корзину с бельём. Артёмкины футболки с супергероями, носки с космическими кораблями, шорты с карманами, набитыми камешками и прочими "сокровищами". Перебирала, сортировала, складывала. Белое к белому, цветное к цветному. Если бы только жизнь можно было так же аккуратно разложить по стопкам.
Стиральная машина загудела, наполняя кухню монотонным шумом. Я села у окна, глядя на тёмный двор. Где-то там, в этой ночи, моя дочь. Что она делает сейчас? О чём думает? Страшно ли ей?
А вдруг с Катей что-то случится?
Мысль пронзила меня, как всегда, без предупреждения. Острая, беспощадная. Я знала, что её работа опасна. Что каждый день может стать последним. А если я не успею попрощаться?
Сколько раз я представляла этот звонок. Чужой голос. Официальный тон. "Примите наши соболезнования…" И что тогда? Как я скажу Артёму? Как объясню семилетнему мальчику, что мама больше не придёт?
А если Артём останется один?
Я прижала ладони к лицу. Нет, только не эти мысли. Не сегодня. Я прогоняла их, как назойливых мух, но они возвращались – каждый вечер, каждую ночь.
Стиральная машина остановилась. Тишина обрушилась на меня, как волна. Я встала, достала влажное бельё, развесила на сушилке. Артёмкины футболки, мои халаты, полотенца – обычные вещи, обычная жизнь. Зацепиться бы за неё, не думать о страшном.
Но в тишине пустой кухни, под тиканье старых часов, страх возвращался снова и снова. И я шептала в темноту единственную молитву, которую помнила: "Господи, сохрани её. Верни домой. Пусть она увидит, как растёт её сын."
А потом шла спать, зная, что завтра всё повторится. Стирка, кухня, школа – и снова одиночество. И снова страх. И снова надежда, что однажды Катя вернётся насовсем.