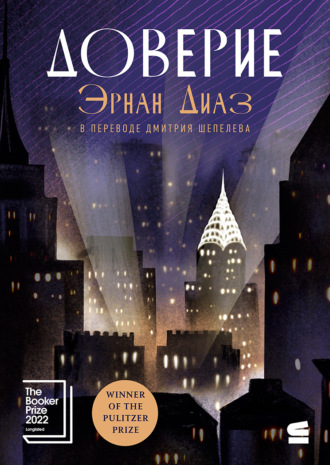
Полная версия
Доверие
Они обменялись любезностями довольно скованно. В повисшей тишине они одновременно переступили с ноги на ногу. Бенджамин извинился и указал на софу напротив окна. Присев, они почувствовали бо́льшую неловкость, чем когда стояли. Из темной глубины окна на них глазели их притопленные отражения. Бенджамин сказал Хелен, что слышал от миссис Бревурт о ее путешествиях. Хелен медленно провела носком туфли против ворса ковра, оставив на шелке слабый след. Бенджамин, похоже, понял, что она не станет отвечать без крайней необходимости. Помолчав немного, он стал рассказывать ей, что никогда по-настоящему не путешествовал, даже не покидал Восточного побережья, но, чувствуя, что выражается неясно, то и дело поправлял себя и наконец замолчал, словно решив, что Хелен, чей взгляд прерывисто блуждал по комнате, не слушала его сбивчивых объяснений.
Хелен стерла след с ковра, проведя туфлей в обратном направлении. Бенджамин посмотрел на нее и перевел взгляд на окно.
– Я.
Когда пауза слишком затянулась, она повернулась к нему, ожидая продолжения. Черты его лица заострились: он страдал от неспособности высказать свои мысли.
В следующий миг, все так же сидя в глухом полумраке, Хелен поняла, что мама своего добилась. Ей стало совершенно ясно, что Бенджамин Раск женится на ней, если она согласится. И тут же решила, что согласится. Потому что поняла, что он был, по сути, одиночкой. В его безмерном уединении она найдет свое – и вместе с тем свободу, в которой ей всегда отказывали властные родители. Если его одиночество добровольно, он будет просто игнорировать ее, а если нет, то будет признателен, найдя в ней приятную собеседницу. В любом случае она не сомневалась, что сумеет найти подход к такому мужу и обрести долгожданную независимость.
Три
Близость может стать тяжким бременем для тех, кто впервые переживает ее после долгой жизни в гордом одиночестве и внезапно понимает, что до сих пор их мир был неполон. Обретение блаженства неотделимо от страха лишиться его. Эти двое сомневаются в своем праве возлагать на кого-то ответственность за свое счастье; они тревожатся, что любимому их благоговение докучает; они боятся, что томление исподволь исказит их черты. Вот так, под воздействием всех этих забот и опасений, они замыкаются в себе, и новообретенная радость общения оборачивается более глубокой формой одиночества, когда они уже решили, что оставили его в прошлом. Подобный страх Хелен почувствовала в муже вскоре после свадьбы. Зная, что беспомощность может перерасти в скрытую злобу – известно, что тот, кто себя недооценивает, в результате станет обвинять других в своей несостоятельности, – она делала все возможное, чтобы развеять тревоги Бенджамина. И даже если забота о его спокойствии означала в итоге гарантию ее собственного, мотивы Хелен были не совсем эгоистичными. Она искренне прониклась теплотой к Бенджамину и его тихим привычкам. Но, будучи сама по натуре тихоней, она с трудом находила нужные слова, верные жесты или хотя бы подходящие обстоятельства для выражения своих добрых чувств, которые (и в этом, как она понимала, была главная загвоздка) ни в коей мере не могли сравниться с его робкой страстностью.
После краткой помолвки последовала зимняя, вопреки традициям, свадьба. Миссис Бревурт, как ни старалась, не смогла добиться, чтобы они подождали хотя бы до ранней весны. Подобным же образом, когда дело дошло до свадебной церемонии и приема, ее возмущенные возгласы пропали втуне. Бенджамин и Хелен поженились в гостиной, где впервые заговорили друг с другом, в присутствии лишь Кэтрин Бревурт и Шелдона Ллойда, который, судя по всему, был рад развеять любые слухи о его прежних попытках приударить за невестой. Все немногочисленные гости, приглашенные на обед после церемонии, были из числа друзей Кэтрин и Шелдона. Едва стало известно о помолвке, Хелен почувствовала, как все они переменили свое отношение к ней. Прежде люди, пытавшиеся как-то преодолеть дистанцию, что она установила между собой и миром, делали это довольно бесцеремонно. Теперь же такая дистанция сделалась явным символом ее нового положения. Люди преодолевали эту пропасть на цыпочках, пытаясь каждым своим неуверенным шагом убедить себя, что им действительно позволено к ней приближаться. Ее молчание, часто принимавшееся за застенчивость или надменность, теперь, как она видела, стали относить на счет ее нового положения, а неумение скрыть скуку сделалось вдруг признаком утонченной отстраненности – такой важной персоне не пристало проявлять интерес к чему бы то ни было. Все от нее ожидали и даже жаждали, чтобы она внушала трепет. Но только на свадебном обеде, на котором она впервые предстала как миссис Раск, она почувствовала в полной мере то ханжеское подобострастие, которое отныне должно будет окружать ее всю оставшуюся жизнь.
Следующим утром молодожены встретились за завтраком, не проронив почти ни слова. Хелен взглянула с облегчением на мужа по другую сторону стола и прониклась уверенностью, что может не опасаться физической или душевной боли, если все их ночи будут такими, как эта. Бенджамин, почувствовав на себе ее взгляд, разбил яйцо с особой бережностью, пытаясь скрыть, что пребывал в том же смятении и смущении, как и выходя из спальни жены.
Их не прельщала идея свадебного путешествия, но Бенджамин все же взял двухнедельную паузу в работе, чтобы они могли провести краткий медовый месяц у себя дома. Надо заметить, что сам хозяин знал свой дом ненамного лучше, чем его молодая жена, поэтому им было чем заняться. Перед домом с утра до вечера слонялись репортеры, и некоторые ставили на другой стороне улицы камеры на штативах, надеясь запечатлеть молодоженов в одном из окон. Хелен с Бенджамином бродили по комнатам, строя туманные, сомнительные планы на их счет. Так они дошли до третьего этажа. Осмотрев малую гостиную, кабинет и несколько спален, они остановились посреди коридора – этакого туннеля из дерева и дамаска, усиливавшего каждый звук, но приглушавшего их голоса. Бенджамин сделал попытку увести Хелен от двери в конце коридора, сказав, что туда им лучше не заходить. Хелен склонила голову набок и прищурилась: это еще почему? Бенджамин сказал, что это боковая дверь в его контору, и замолчал. Хелен не сдержала чуть напряженного вздоха. Бенджамин отвернулся от двери и сказал, что ему бывает трудно выйти оттуда. Тем не менее Хелен обошла его и, открыв дверь, увидела одно из самых просторных помещений во всем доме, задуманное, чтобы впечатлять и поражать, но не достигавшее этой цели, поскольку все там выглядело неживым и нетронутым. Да, комната поражала размерами, но в ней не было ни бумаг, ни папок, ни пишущих машинок, ни иного несомненного признака работы. И возникало это впечатление не просто потому, что все там было таким убранным, а потому, что там по большому счету было нечего убирать. Сначала Хелен не могла понять, что же это за контора, из которой Бенджамин, по его словам, с трудом мог выйти, а потом заметила в укромном уголке, возле камина размером с беседку, стол, а на нем – телефон и стеклянный колпак, накрывавший устройство наподобие часов или барометра, и догадалась, что это биржевой телеграфный аппарат, так называемый тикер. Ковер перед ним был протерт до основы.
Бенджамин снова сделал попытку уйти прочь, сказав, что там не на что смотреть, но Хелен снова настояла на своем. Бенджамин, отводя взгляд от жены, робко поинтересовался, не находит ли она свой новый дом и обстоятельства гнетущими. Возможно, если она как-то поменяет обстановку по своему вкусу, ей станет легче освоиться в новой жизни? На это она ничего не сказала, и он подтвердил, что да, им, пожалуй, придется провести кое-какие преобразования. Обновления. Она коснулась его плеча, улыбнулась и сказала с ласковой безмятежностью, что ей, как и ему, нет дела до таких вещей. Он не знал, как ответить на такое неожиданное проявление участия. Она кивнула на тикер и сказала, прежде чем выйти из комнаты, что они увидятся за обедом.
Во время войны Хелен не имела возможности связаться с отцом в клинике доктора Балли в Швейцарии. Когда же регулярную связь восстановили, через месяц-другой после ее свадьбы, она получила в ответ на свой последний запрос потрясшее ее короткое письмо на немецком, из которого следовало, что мистер Бревурт покинул клинику вскоре после того, как его зарегистрировали. Он никого не уведомил и просто исчез среди дня, во время ухода за садом. Персонал тщательно обыскал окрестности, но не смог найти его. Врач, подписавший письмо, выражал сожаление о задержке с этим печальным известием и пояснял, что, даже если бы почтовая служба не пострадала от войны, у них все равно не было адреса ближайших родственников, пока они не получили письма миссис Раск.
Хелен не могла припомнить, когда плакала последний раз, а теперь рыдала, сама себе поражаясь. Частью сознания, невосприимчивой к горю, она понимала, что это вполне естественно – оплакивать потерю родителя, и была близка к тому, чтобы счесть свои слезы следствием некоего безусловного рефлекса, не затрагивавшего, однако, ее чувств. Этой же своей частью она испытывала явное облегчение оттого, что отец с его несгибаемыми догмами и тягомотным безумием скрылся. Но куда? И с этим вопросом скорбь захлестнула ее целиком. Его могло убить взрывом или шальной пулей; он мог замерзнуть насмерть; мог умереть от голода. Но мог и выжить, превратившись в бормочущего идиота, бродящего по сельской местности или просящего милостыню на городских улицах, не зная местного языка. Нельзя было исключать и того, что к нему вернулся разум и он завел новую семью, списав спутанные воспоминания о дочери на одну из галлюцинаций, изводивших его во время болезни. Так или иначе, одно было несомненно: Хелен потеряла отца.
Как только Бенджамин узнал об исчезновении мистера Бревурта, он связался со своими европейскими партнерами и поручил им нанять сыщиков, чтобы прочесать весь континент. Хелен знала, что это ни к чему не приведет, но не отговаривала мужа, давая ему проявить заботу о ней. Она поблагодарила его и попросила не говорить об отце ее матери, которая наконец-то жила счастливо после стольких лет тревог и волнений. Но, кроме того, Хелен хотелось посмотреть, коснется ли когда-нибудь миссис Бревурт своего мужа в разговоре. Она не коснулась.
Кэтрин Бревурт заняла на постоянной основе квартиру на Парк-авеню, которую Бенджамин выкупил для нее у Шелдона Ллойда. Ее светский круг существенно расширился после свадьбы Хелен, и ее вечера никогда еще не имели такого успеха. Не приходилось сомневаться, что большинство новых гостей на ее soirées питали надежду познакомиться с неуловимым зятем миссис Бревурт. К чести Кэтрин надо сказать, гости продолжали посещать ее салон и после того, как понимали, что никогда не увидят там мистера и миссис Раск. Хелен перестала бывать на вечеринках матери после того, как переехала к Бенджамину, не только потому, что ей никогда не нравились светские мероприятия, но и потому, что общаться с матерью после помолвки ей становилось все труднее. Она понимала, что новообретенная эксцентричность миссис Бревурт, ее возросшая фривольность, нарочитая дерзость и беспричинная вычурность были не просто проявлением безудержной радости, а своеобразной приукрашенной агрессией, направленной непосредственно на Хелен как вызов и как урок: «Вот как ты должна жить». Наиболее красноречивыми, хоть и бессловесными, заявлениями ее матери были счета и квитанции. Вечеринки миссис Бревурт (включая ее гардероб, предметы интерьера, цветочные композиции и арендуемые автомобили) сделались весьма экстравагантными, и все счета приходили на адрес конторы Бенджамина. Их оплачивали без возражений или хотя бы вопросов, но Хелен распорядилась всегда пересылать их ей после оплаты и хранила, словно стопку безответных писем матери.
За первые несколько лет после свадьбы состояние Расков небывало возросло. Он и его сотрудники стали проводить феноменальное количество сделок в самом широком спектре инструментов с точностью, какую многие его коллеги находили необъяснимой. Не все эти сделки поражали воображение, но в совокупности даже незначительная прибыль от каждой составляла внушительные цифры. Уолл-стрит поражалась точности Раска и его систематическому методу, который не только обеспечивал стабильный доход, но и служил примером строжайшей математической элегантности – безличной формы красоты. Коллеги считали его провидцем, мудрецом, наделенным сверхъестественными способностями, который просто не мог проиграть.
Как раз тогда Хелен стала понимать то, в чем Бенджамин уже давно убедился: уединенность требует публичного фасада. Поскольку совсем избежать общественной жизни не представлялось возможным, Хелен решила извлечь из этого пользу. Вместо того чтобы последовать примеру матери, который вполне соответствовал бесшабашному духу времени, она включилась в бесчисленные благотворительные программы. В течение нескольких лет больницы, концертные залы, библиотеки, музеи, приюты и университетские отделения по всей стране украсились благодарственными табличками с фамилией Расков.
Поначалу благотворительность была для Хелен лишь частью ее общественного образа. Но постепенно у нее развился неподдельный интерес к меценатству. С самого замужества она могла свободно предаваться своей любви к литературе, унаследованной от отца и возросшей во время путешествий по Европе. Особенный интерес она питала к живым авторам, хотя поначалу избегала встреч с ними, решив для себя, что расхождение между творчеством и его автором не вызовет ничего, кроме разочарования. Но в ответ на ее поддержку многие из писателей стали давать советы и предлагать дела, достойные ее щедрости. Казалось неразумным не прислушиваться к их мнению. С их помощью благотворительные начинания стали приносить максимум пользы, и сфера ее деятельности расширялась. Она познакомилась с выдающимися художниками, музыкантами, романистами и поэтами современности. И, к немалому своему удивлению, стала с нетерпением ожидать встреч со своими новыми знакомыми. Раньше Хелен не получала удовольствия от общения. Но теперь, в кругу подходящих собеседников, она наслаждалась их выразительной речью, эрудицией и богатым словарным запасом, хотя сама предпочитала слушать, а не говорить, чтобы позже записывать в дневник (к тому времени он насчитывал уже несколько толстых тетрадей) наиболее яркие и глубокомысленные замечания. Объединив свою страсть к искусству с благотворительностью, она отметила, что примирила интеллектуальную неугомонность отца с общительностью матери.
Но, как бы ни было ей приятно общаться с художниками, ничто не волновало ее сильнее, чем исследования и лечение психических заболеваний. Она считала неразумным и непростительным, что медицинские науки, достигшие во всех областях такого прогресса, так пренебрежительно относятся к психиатрии. В этом направлении она тесно сотрудничала с мужем, который всегда проявлял живой интерес к химическому и фармацевтическому секторам и инвестировал в них значительные средства во время войны. Он был держателем контрольного пакета акций двух американских компаний по производству лекарств и владел крупным пакетом акций «Фармацевтики Хабера» в Германии, приобрести который ему помог Шелдон Ллойд незадолго до того, как познакомился с Хелен в Цюрихе. Для этих компаний первоочередной задачей стала разработка эффективных лекарств от широкого спектра психических расстройств, лечившихся до тех пор почти исключительно морфином, хлоралгидратом, бромидом калия и барбиталом. То обстоятельство, что множество солдат вернулись с фронта морально искалеченными, с явными признаками психических травм – и не было действенных способов устранить их симптомы, – придавало этим исследованиям особую неотложность.
Хелен с Бенджамином не жалели времени на изучение отчетов своих компаний и встречи с учеными. Оба они отличались всеядным умом (гибким, быстрым, ненасытным) и все схватывали на лету. Довольно скоро они уже могли читать весьма заумные статьи и академические трактаты и бегло обсуждать их. Им искренне хотелось разбираться в новейших открытиях в области химии, а кроме того, в фармакологии они наконец нашли общий интерес и могли увлеченно обсуждать ее, одновременно восторгаясь интеллектуальными достоинствами друг друга.
С первых дней знакомства каждый из них восхищался умом другого и, сверх того, способностью понимать молчание другого и ценить свое свободное пространство, так много значившее для них. В то время как Бенджамин погружался в свою работу, Хелен была вольна расширять горизонты своего литературного мира. Каждую неделю она получала ящики и коробки, полные книг, и должна была где-то размещать их. Одна из двух переделок, которым она подвергла их дом, началась с того, что она избавилась от занимавших библиотеку декоративных книг в сафьяновых переплетах, с корешками в идеальном состоянии. Хелен заставила полки своими книгами и создала настоящую читальню. Когда кончилось место, она снесла две стены; когда же ее собрание разрослось сверх всякой меры, она наняла библиотекаря. И стала проводить в своей библиотеке чтения, лекции и неформальные собрания.
Другая переделка состояла в том, что один из салонов Хелен превратила в камерный концертный зал. Любовь к концертам Раски открыли в себе, можно сказать, случайно. То, что началось как компромисс – музыкальные вечера, как они сообразили, давали идеальную возможность выйти «в люди», уберегая от участия в пустых разговорах, призванных заполнять неловкие паузы, – переросло в страсть. Развив у себя вкус к камерной музыке, они перенесли этот принцип в свои отношения. Они устраивали у себя дома частные концерты, что давало им возможность побыть вместе, без лишних слов, разделяя эмоции, не направленные на них лично, существовавшие как бы сами по себе. Именно в силу их упорядоченности и опосредованности для Бенджамина и Хелен это были самые интимные моменты.
Их вечерние концерты стали своего рода легендой в музыкальном сообществе и не только благодаря калибру приглашаемых исполнителей и немногочисленной, избранной публике. Не больше двух десятков человек получало приглашения на ежемесячные концерты, и тем не менее значительная часть нью-йоркского общества утверждала, что регулярно их посещает. В числе гостей бывали бизнесмены, мучившие себя Брамсом, чтобы их хозяин не мучил себя болтовней ни о чем. Но большую часть слушателей составляли новые знакомые Хелен из музыкальных и писательских кругов. Первые несколько сезонов светские беседы после музыки недвусмысленно не поощрялись. Как только стихали аплодисменты, Хелен благодарила музыкантов и гостей, и они с мужем уходили. Но по мере расширения благотворительной работы музыкальные вечера все теснее с ней переплетались. Под конец «Песен» Брамса к Хелен мог подойти писатель, чтобы закончить обсуждение библиотечной программы; в антракте цикла сонат для виолончели к ней приближался кто-нибудь из музыкантов, чтобы сообщить об оркестре, нуждавшемся в средствах; после квинтета для кларнета молодой композитор, понимающий, что, по всей вероятности, больше никогда не переступит порога ее дома, набирался храбрости и просил о покровительстве. Со временем такие беседы становились все пространнее, пока не сделались частью программы. После каждого выступления Хелен стала подавать фруктовые соки – сухой закон никак не сказывался на привычках Расков, – и люди задерживались до полуночи. Бенджамин никогда не оставался на этих скромных коктейльных вечеринках, обретших почти такой же мифический статус, что и сами концерты, и всегда первым желал всем спокойной ночи.
Дисциплина, творческий подход и механическая непреклонность стали первостепенными факторами – в числе многих прочих – нового уровня успеха Бенджамина Раска. Его процветание соответствовало оптимизму «ревущих двадцатых». Мир никогда еще не знал такого экономического роста, как в Америке 1920-х. Производство возрастало рекордными темпами, как и прибыль. Производительность, и прежде немалая, была на подъеме. Автомобильная промышленность едва поспевала за ненасытной жаждой скорости, охватившей всю нацию. Индустриальные чудеса эпохи рекламировались от побережья до побережья по радиоприемникам, и каждый хотел их иметь. Начиная с 1922 года стоимость ценных бумаг, казалось, росла вертикально. Если до 1928 года почти никто не мог представить, чтобы на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались пять миллионов акций в день, уже во второй половине того же года этот потолок стал почти плинтусом. В сентябре 1929-го индекс Доу[11] закрылся на самом высоком уровне в истории. Как раз в те дни профессор Йельского университета Ирвинг Фишер, ведущий авторитет по экономике в стране, заявил, что цены на акции «достигли, по-видимому, постоянного высокого плато».
Благодаря мягкому надзору правительства и его нежеланию нарушать этот прекрасный коллективный сон возможности были у каждого, кто видел их и использовал. К примеру, Раск через свои банки занимал наличные у Федеральной резервной системы Нью-Йорка под пять процентов, а затем ссужал их на рынке до востребования по меньшей мере под десять, а то и до двадцати процентов. Так уж получилось, что в то время маржинальная торговля – покупка акций на деньги, взятые взаймы у брокерских фирм, под залог тех же ценных бумаг – взлетела примерно с одного до семи миллиардов долларов, что недвусмысленно указывало на то, что подтянулась широкая публика и люди, большая часть которых не имела об акциях никакого понятия, спекулировали деньгами, которых у них не было. Однако Раск, похоже, уверенно обгонял всех на шаг. Его первый инвестиционный фонд опередил распространение подобных учреждений в конце двадцатых годов по крайней мере на полдесятилетия. Полагаясь на свою славу финансового гения, Раск оценивал свой портфель значительно выше рыночной стоимости акций, содержавшихся в нем. А кроме того, будучи одновременно инвестиционным банкиром и спонсором нескольких фондов, он мог производить какие-то из тех же ценных бумаг, которые продавал, и неоднократно выпускал обычные акции, которые разом покупал (или распределял среди привилегированных инвесторов), а затем продавал физическим лицам за сумму, до восьмидесяти процентов превышавшую изначальную покупную стоимость. Когда же ему хотелось избежать пристального внимания Нью-Йоркской фондовой биржи, он торговал в Сан-Франциско, Буффало или Бостоне.
Все без исключения чувствовали себя вправе приобщиться к процветанию, правившему страной в течение десяти лет по окончании войны, и пользоваться сопутствовавшими чудесами техники. И Раск подпитывал это чувство безграничных возможностей, создавая новые кредитные учреждения и банки, предоставлявшие наличные деньги на заманчивых условиях. Эти банки (между ними периодически возникала фиктивная конкуренция для привлечения клиентов) ничуть не походили на величественные мраморные сооружения с накрахмаленными клерками, издавна внушавшие людям страх. Напротив, это были располагающие помещения с приветливыми кассирами – и всегда находился способ получить ссуду на автомобиль, холодильник или радио. Раск также экспериментировал с финансированием кредитных линий и планов рассрочки для магазинов и производителей, чтобы они могли предлагать эти варианты оплаты своим клиентам. Все эти бессчетные и порой пустяковые долги (от его кредитных служб, банков поменьше и различных кредитных предприятий) объединялись и продавались оптом в виде ценных бумаг. В двух словах: он понял, что отношения с потребителем не заканчиваются приобретением товара – из этого обмена можно извлечь больше прибыли.
Он также создал фонд, предназначенный исключительно для рабочего человека. Для начала было достаточно скромной суммы в несколько сотен долларов на простом сберегательном счете. Фонд покрывал эту сумму (а иногда удваивал и даже утраивал ее), чтобы затем инвестировать в свой портфель и использовать акции в качестве обеспечения. После чего школьная учительница или фермер могли погашать свой долг в рассрочку, ежемесячными платежами. Если каждый имел право на благосостояние, Раск решил, что позаботится о соблюдении этого права.
На пиках и спадах этого бума, когда на торгах творилось безумие, питавшееся оптимизмом или паникой, нередко тикер отставал от рынка. Если объем сделок был достаточно велик, задержка могла превышать два часа, а это значило, что лента, выползавшая из аппарата, могла сразу отправляться в корзину для бумаг. Но именно в такие моменты кромешной тьмы Раск поистине расправлял крылья, словно мог достичь высочайших пиков, лишь летая вслепую. Что в немалой степени подкрепляло его легендарный статус.
Темпы, какими Бенджамин увеличивал свое состояние, и мудрость, с какой Хелен распоряжалась им, воспринимались всеми как подтверждение их тесной связи. Это в сочетании с их скрытностью превращало их в мифических созданий в глазах нью-йоркского общества, которым они так пренебрегали, равнодушием лишь укрепляя свою сказочную репутацию. Однако их семейная жизнь не вполне соответствовала сказке об идеальной паре. Бенджамин восхищался Хелен на грани благоговения. Ее непостижимость внушала ему трепет, и он вожделел ее с каким-то мистическим, почти целомудренным пылом. И год за годом в нем возрастала неуверенность – чувство, незнакомое ему до женитьбы. Если в работе он всегда был собран и решителен, то дома его одолевали робость и сомнения. Он ткал вокруг жены замысловатые гипотезы, прошитые надуманными причинными связями, стремительно разраставшиеся в обширные сети предположений, которые он то и дело расплетал и сплетал заново во всевозможных узорах. Хелен замечала его неуверенность и пыталась его успокоить. Но, как бы она ни пыталась (а она действительно пыталась), она не могла в полной мере ответить взаимностью на чувства Бенджамина. Пусть ее впечатляли его достижения и трогало его обожание, и она всегда относилась к нему с добротой, заботой и даже нежностью, существовала небольшая, но неотвратимая сила, весьма похожая на магнитное отталкивание, заставлявшая ее отшатываться от него, когда он хотел близости. Она никогда не была холодна к нему или черства – напротив, она была чуткой и по-своему любящей спутницей. Однако он с самого начала понимал, что чего-то между ними не хватает. И она, понимая, что он это понимает, пыталась возместить это всевозможными, но так или иначе недостаточными способами. Бенджамин никогда не получал полного удовлетворения.


