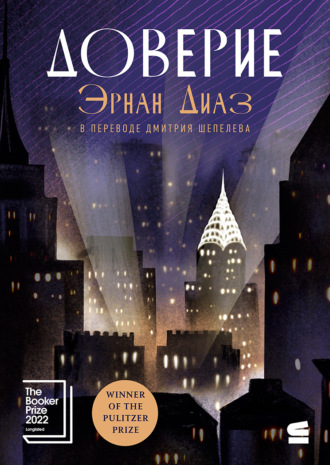
Полная версия
Доверие
Раску потребовалось некоторое время, чтобы сориентироваться на новых высотах, на которые его вознес кризис. Повсюду, куда бы он ни шел, он чувствовал вокруг себя жужжавший ореол, надежно отделявший его от мира. И не сомневался, что другие тоже это чувствовали. Его видимый распорядок дня остался прежним – он обитал в своем тишайшем доме на Пятой авеню, поддерживая оттуда внешнюю иллюзию активной светской жизни, в реальности сводившейся к редким появлениям на мероприятиях, на которых, как он полагал, его призрачное присутствие возымеет наибольший эффект. Тем не менее успех во время всеобщей паники сделал его другим человеком. Но что было поистине достойно удивления даже для него самого, это то, что он стал высматривать во всех, кого встречал, признаки признания. Он жаждал подтверждений, что люди замечают окутывавшее его мерцающее жужжание, его обособленность. Как ни парадоксально, это желание подтвердить дистанцию между собой и другими являлось формой общения с ними. И это чувство было ему внове.
Поскольку теперь стало невозможным принимать самостоятельно все решения, касавшиеся его бизнеса, Раск был вынужден наладить тесные отношения с одним молодым человеком из своих подчиненных. Шелдон Ллойд, поднявшийся по ступенькам карьерной лестницы и ставший его доверенным лицом, просматривал ежедневные дела, требовавшие внимания Раска, позволяя лишь действительно важным бумагам ложиться к нему на стол. Кроме того, он проводил ежедневные встречи с клиентами: его работодатель являлся только в тех случаях, когда требовалась демонстрация силы. Во многих отношениях Шелдон Ллойд воплощал собой те стороны финансового мира, которыми гнушался Бенджамин. Для Шелдона, как и для большинства людей, деньги были лишь средством достижения целей. Он тратил их. Покупал разные вещи. Дома, машины и экипажи, животных, живопись. Бахвалился своим богатством. Путешествовал и закатывал вечеринки. Деньги покрывали его с ног до головы – каждый день кожа его источала новый запах; рубашки его были не отглаженными, а новыми; пальто его всегда блестело почти так же, как и его волосы. Его переполняло то самое, наиболее обыденное и смущавшее Раска качество, именуемое вкусом. Глядя на него, Раск думал, что только служащий, получающий деньги от кого-то, может тратить их подобным образом – на легкую и свободную жизнь.
Но именно благодаря своей легкомысленности Шелдон Ллойд оказался полезен Бенджамину. Его помощник был, разумеется, ушлым маклером, но Раск также понимал, что в глазах многих его клиентов и мимолетных партнеров он олицетворял собой «успех». Шелдон Ллойд являлся идеальным рупором его бизнеса – гораздо более эффектным представителем во многих сферах, чем его работодатель. Поскольку Шелдон так добросовестно соответствовал всем ожиданиям того, как должен выглядеть финансист, Бенджамин стал полагаться на него и в вопросах, выходивших за рамки его официальных обязанностей. Он просил его организовывать ужины и вечеринки, и Шелдон был рад услужить, наводняя дом Раска своими друзьями и охотно развлекая членов правления и инвесторов. Настоящий хозяин неизменно ускользал пораньше, но впечатление, что он вел более-менее активную светскую жизнь, укреплялось.
В 1914 году Шелдон Ллойд был направлен в Европу, чтобы завершить сделку с Дойче-банком и одной немецкой фармацевтической компанией и провести кое-какую операцию в Швейцарии в качестве агента своего работодателя. Мировая война застала Шелдона в Цюрихе, куда Раск направил его для приобретения долей в новых процветавших местных банках.
А Бенджамин тем временем обратил внимание на материальные основы своего богатства – на вещи и людей, которых катастрофа сплавила в единую машину. Он стал инвестировать в отрасли, связанные с войной, – от добычи полезных ископаемых и выплавки стали до производства боеприпасов и судостроения. Он также проявил интерес и к авиации, увидев, какой коммерческий потенциал она обретет в мирное время. Очарованный технологическими достижениями, определившими те годы, он финансировал химические компании и инженерные предприятия, патентовал многие невидимые детали и жидкости в новых механизмах, приводивших в движение мировую промышленность. И через доверенных лиц в Европе вел переговоры об облигациях, выпущенных каждой страной, вовлеченной в войну. Но каким бы внушительным ни стало его богатство, то была лишь отправная точка его истинного восхождения.
По мере его достижений возрастала и его сдержанность. Чем дальше и глубже его инвестиции проникали в общество, тем больше он замыкался в себе. Казалось, что практически бесконечные посреднические операции, из которых складывается состояние, – акции и облигации, привязанные к корпорациям, привязанным к земле и оборудованию, а также к трудовым массам, получающим жилье, питание и одежду за счет труда других масс по всему миру, получающих оплату в различных валютах со стоимостью, также являющейся объектом биржевой игры и спекуляций, привязанных к судьбам различных национальных экономик, привязанных в конечном счете к корпорациям, привязанным к акциям и облигациям, – привели к тому, что непосредственные человеческие отношения утратили для него всякую значимость. Тем не менее, когда он прошел то, что представлялось ему половиной жизненного пути, туманное чувство генеалогической ответственности вкупе с еще более туманными представлениями о приличиях заставило его задуматься о браке.
Два
Бревурты были старинным родом из Олбани[4], однако их богатство уступало их родовитости. Три поколения несостоявшихся политиков и романистов низвели их до состояния достойной скудости. Их дом на Перл-стрит, один из первых в городе, служил воплощением этого достоинства, и вся жизнь Леопольда и Кэтрин Бревурт вращалась по большому счету вокруг его содержания. К тому времени, как родилась Хелен, они закрыли верхние этажи, чтобы в полной мере уделять все свое внимание нижним, где принимали гостей. Их гостиная являлась одним из центров общественной жизни Олбани, и тающие средства Бревуртов не мешали им принимать Шермерхорнов, Ливингстонов и Ван-Ренсселеров. Успех этим приемам обеспечивал редкий баланс между легкостью (у Кэтрин был талант давать другим почувствовать себя умелыми собеседниками) и серьезностью (Леопольд давно прослыл местным интеллектуалом и моральным авторитетом).
В их кругу участие в политике считалось чем-то недостойным, а интерес к литературе отдавал богемой. Тем не менее мистер Бревурт унаследовал от предков предосудительную для джентльмена любовь к государственной службе и к письменному слову, вылившуюся в написание двухтомника по политической философии. Литературный мир встретил двухтомник гробовым молчанием, и уязвленный автор переключил внимание на маленькую дочь, решив взять ее обучение в свои руки. С самого рождения Хелен мистер Бревурт был слишком поглощен своими бесплодными прожектами, чтобы уделять ей серьезное внимание, но теперь, занявшись ее образованием, он день за днем изумлялся все новым граням ее личности. В пять лет она уже была заядлой читательницей, и отец с удивлением обнаружил в ней не по годам развитую собеседницу. Они подолгу гуляли по берегу Гудзона, иногда до самой ночи, обсуждая окружавшие их природные явления: головастиков и созвездия, падавшие листья и ветер, уносивший их, лунный ореол и оленьи рога. Леопольд никогда еще не испытывал подобной радости.
Все имевшиеся в их распоряжении школьные учебники он считал негодными, ставя под сомнение как их содержание, так и подачу материала. Поэтому во всякое время, свободное от преподавания и светских обязанностей, которые ему вечно находила жена, мистер Бревурт занимался написанием руководств и составлением рабочих тетрадей для дочери. Он заполнял их наставительными играми, загадками и ребусами, которые Хелен обожала и почти всегда решала. Наряду с наукой заметное место в их образовательной программе занимала литература. Отец с дочерью читали американских трансценденталистов, французских моралистов, ирландских сатириков и немецких афористов. Прибегая к помощи допотопных словарей, они пытались переводить сказки и басни Скандинавии, Древнего Рима и Греции. Приободренные вопиюще абсурдными результатами своих начинаний (миссис Бревурт нередко вторгалась в их маленькую студию, отрываясь от своих гостей, и просила перестать «ржать как лошади»), они увлеклись собиранием доселе неизвестных, сумасбродных мифов. Первые два-три года обучения Хелен по отцовской программе стали счастливейшим временем в ее жизни, и, даже если впоследствии отдельные подробности поблекли, общее чувство воодушевления и цельности навсегда сохранилось в ее сознании.
Стремясь расширить свой учебный план, мистер Бревурт полагался на прихотливые исследовательские методы, обращаясь к устаревшим научным теориям, замшелым памятникам философии, выморочным психологическим доктринам и нечестивым теологическим догмам. Пытаясь повенчать религию с наукой, он погрузился в учение Эммануила Сведенборга. Это стало поворотной точкой в его жизни и отношениях с дочерью. Направляемый учением Сведенборга, он уверился, что не столько покаяние и страх, сколько благоразумие ведет к добродетели, а может, и к божественному началу. Математические трактаты заняли второе место по важности после Священного Писания, и мистера Бревурта приводила в восторг та элегантная легкость, с какой Хелен в возрасте семи-восьми лет решала мудреные алгебраические задачи и могла дать подробное толкование ряда мест из Библии. А кроме того, он просил дочь подробно записывать свои сны, которые они увлеченно разбирали сквозь призму нумерологии, выискивая зашифрованные послания от ангелов.
Былой восторг мистера Бревурта от занятий с дочерью несколько померк в тени его новообретенной страсти к теологии. Тем не менее Хелен до последнего сохраняла товарищеский дух, установившийся между ними в прошлые годы. Чтобы скрасить сгущавшуюся скуку ежедневных занятий, Хелен научилась общаться с отцом, все более отдалявшимся от нее, через игру. Надо признать, что в учебном плане, основанном в значительной мере на импровизации, было немало такого, что Хелен с радостью принимала (арифметика, оптика, тригонометрия, химия, астрономия), но более мистические аспекты программы мистера Бревурта наводили на нее тоску, пока она не обнаружила, как можно выворачивать их наизнанку для собственного развлечения. Она стала придумывать анаграммы из библейских пророчеств, выдавая их за предсказания о будущем семьи; составлять каббалистические толкования ветхозаветных текстов, подкрепляя их эзотерически-математической аргументацией, всегда производившей впечатление на отца, даже если смысл ускользал от него; исписывать страницы дневника сновидений шокирующими сценами на грани приличий. Когда-то Леопольд поставил ей условие, чтобы она записывала свои сны с непреложной честностью, и Хелен испытывала удовольствие, глядя, как дрожит от ужаса отцовский подбородок за чтением ее гривуазных измышлений.
Несмотря на то что она начала выдумывать свои сны из озорства, с каких-то пор это стало необходимостью. Лет с девяти ее ночи стала удлинять бессонница, лишая ее не только снов, но и покоя. Разум ее захватывали ледяные щупальца беспричинной тревоги, превращая его в пустошь страха. Она чувствовала, как разжиженная кровь слишком быстро циркулирует по венам. Иногда ей казалось, что она слышит, как ее сердце задыхается. Такие кошмарные бдения стали случаться все чаще, и дни за ними проходили как в тумане. Хелен обнаружила, что поддерживать чувство реальности ей почти не по силам. И тем не менее родители предпочитали видеть дочь именно в таком притухшем состоянии – отцу доставляло удовольствие рассматривать ее блеклые выкладки; мать находила ее более покладистой.
Вскоре Хелен осознала, что является не только ученицей отца, но и объектом его исследований. Казалось, его интересуют конкретные результаты своего преподавания – ему хотелось знать, как они формируют разум и нравственность дочери. Когда он экзаменовал ее, у Хелен часто возникало ощущение, что кто-то другой наблюдает за ней его глазами. Лишь много позже она поняла, что все это выпытывание и побудило ее скрыться за личиной безропотной тихони, чтобы играть эту роль с безупречной достоверностью перед родителями и их друзьями – девочки ненавязчиво-вежливой, не открывающей рта без крайней необходимости, отвечающей на все по возможности кивками и односложными фразами, вечно отводящей глаза, всячески стараясь избегать общества взрослых. Однако, повзрослев, она не смогла избавиться от этого образа, отчего задавалась вопросом, не была ли она в самом деле такой, или, может быть, дух ее за годы притворства уподобился маске.
Собрания на Перл-стрит пользовались неизменным успехом, несмотря на ограниченные средства Бревуртов, что свидетельствовало об обаянии и гостеприимстве миссис Бревурт. Ни ухудшавшееся качество чая, ни повальное дезертирство прислуги не могли отвадить ее гостей. Даже ее муж, чье поведение стало вычурно, а слова – загадочны, не отпугивал их. Одной лишь силой своего обаяния – и ловкими тактичными маневрами – она добивалась, чтобы ее гостиная продолжала оставаться центром светской и интеллектуальной жизни Олбани. Но настал момент, когда им пришлось снова открыть верхние этажи и, обставив их наилучшим образом, принимать жильцов. Миссис Бревурт смогла бы пережить позор того, что вверх и вниз по ее лестнице ходят государственные служащие, но ее завсегдатаи сочли за лучшее ради ее же блага впредь собираться в другом месте. Примерно тогда же Бревурты решили, что Олбани стал для них слишком провинциален.
Прежде чем отправиться в путешествие по Европе, они провели месяц в Нью-Йорке, в доме одной из знакомых миссис Бревурт, на Восточной 84-й улице, возле Мэдисон-авеню, всего в нескольких кварталах от особняка, который в будущем – о чем никто и подумать не мог – станет домом Хелен. Да что там, годы спустя она и сама будет частенько вспоминать то время в Нью-Йорке и гадать, не могла ли она в свои одиннадцать лет увидеть на прогулке с мамой успешного молодого бизнесмена, который станет ее мужем. Случалось ли этим двоим – девочке и мужчине – видеть друг друга? В любом случае не подлежит сомнению, что ребенком она провела немало скучных часов в обществе многих из тех людей, которые будут искать ее внимания и расположения, когда она выйдет замуж. В тот месяц мать старалась брать ее с собой на всевозможные мероприятия в дневное время: ланчи, лекции, чаепития, поэтические чтения. Миссис Бревурт часто говорила, что там девочка сможет почерпнуть для себя кое-что поважнее, чем на уроках ботаники или греческого, которые давал ей отец. Хелен, по обыкновению, держалась тише воды ниже травы – она смотрела и слушала, не догадываясь, что через какие-нибудь десять лет узнает многие из этих лиц и голосов, и не представляя, как в будущем послужит ей знание того, кто из них притворяется, будто помнит или не помнит ее.
Их жизнь в Европе была бы невозможна без талантов миссис Бревурт. Впервые оказавшись во Франции, они сняли скромные комнаты в Сен-Клу, но Кэтрин вскоре обнаружила, что это слишком далеко от центра Парижа. Имея массу поручений от подруг, она отправилась на несколько дней к Лоуэллам, жившим на острове Сен-Луи. Оттуда она обзвонила множество людей – как своих знакомых, так и тех, с кем ее просили связаться, чтобы поделиться новостями, письмами и сведениями личного характера из Нью-Йорка. Не прожили они во Франции и недели, как их пригласила к себе погостить Маргарет Пуллман, жившая на площади Вогезов. Это повторялось с ними почти всюду, куда они приезжали – в Биаррице, Монтрё, Риме – и поселялись за разумные деньги в каком-нибудь пансионе или альберго[5] в скромной, но респектабельной части города. Миссис Бревурт примерно неделю навещала подруг, обмениваясь новостями и завязывая новые знакомства среди американских экспатриантов, после чего кто-нибудь приглашал ее погостить у себя вместе с мужем и дочкой. Впрочем, со временем их роли поменяются: если сначала это миссис Бревурт пользовалась добротой своих более состоятельных соотечественниц, то год-другой спустя она сделается столь желанной гостьей, что ей придется отклонять приглашения, отчего ее общества станут добиваться еще охотнее. Куда бы ни следовала ее семья, миссис Бревурт становилась связующим звеном, объединявшим всех странствующих американцев, с которыми стоило познакомиться.
Для американцев за границей было в порядке вещей избегать друг друга. Не только, как велел негласный кодекс, из соображения тактичности, но и потому, что никому не хотелось признавать, что европейских друзей у них немного и они испытывают провинциальную зависимость от знакомых соотечественников. Прекрасно это понимая, миссис Бревурт со свойственной ей смекалкой взяла на себя миссию этакой вестницы среди изолированных друг от друга иностранцев, чем оказала им услугу, ведь она удовлетворяла их любопытство, позволяя им и дальше поддерживать впечатление беспечной самодостаточности. Она стала тем человеком, к которому обращались, горячо желая с кем-то познакомиться, но боясь оплошать без ее чуткой поддержки; она восстанавливала порванные связи и устраивала новые; она умела вводить людей в избранные круги, сохраняя при этом впечатление (что особенно важно) закрытости этих кругов; она была, по единодушному мнению, несравненной сплетницей и непревзойденной сводницей.
Путешествуя в предгорьях, вдоль морского побережья или по городам (смотря по сезону), останавливаясь, задерживаясь или торопясь (смотря по удобствам), Бревурты составляли карту своеобразного гранд-тура. Мистер Бревурт посвящал бо́льшую часть времени образованию дочери и выискиванию всевозможных мистических кругов: спиритуалистов, алхимиков, магнетизеров, некромантов и прочих оккультистов, совершенно пленивших его. Хелен и раньше с тяжелым сердцем признавала, что лишилась в лице отца друга и единственного спутника в Европе, но теперь совсем пала духом: она стала старше и благодаря начитанности и образованности сумела понять, что Леопольд превращался в оккультного мшелоимца. Ее место в жизни отца заняли догмы и заповеди, над которыми несколько лет назад они бы дружно посмеялись и сочинили сумасбродные истории. Грустно было видеть, как отец отдаляется от нее, но что по-настоящему угнетало ее, так это потеря уважения к его умственным способностям.
Тем не менее мистер Бревурт не в полной мере утратил интерес к талантам дочери. Через несколько лет путешествий он вынужден был признать, что ее способности к языкам, точным наукам, библейской герменевтике и тому, что он называл ее мистической интуицией, превзошли его собственные, и стал планировать их семейный маршрут с учетом местообитания различных ученых мужей, которые могли бы продолжить ее образование. Это заводило их на скромные постоялые дворы в сельской местности и в общежития на окраинах университетских городков, где матери, отцу и дочери приходилось проводить все время в уединении. Такая изоляция в нетипичной для них среде приводила к тому, что мистер и миссис Бревурт часто ссорились из-за всякой ерунды. Хелен все дальше уходила в себя, и ее молчание давало родителям карт-бланш для все более язвительных перепалок. Однако, когда наконец приходило время для общения с каким-нибудь светочем науки или оккультным авторитетом, Хелен всегда преображалась. Внезапно она преисполнялась кристальной уверенности в себе – что-то в ней отвердевало, заострялось и сияло.
Будь то в центре Йены, в пригороде Тулузы или на окраине Болоньи, все повторялось почти без изменений. Они снимали номера в гостинице, где миссис Бревурт жаловалась на некое недомогание, требовавшее постельного режима, а мистер Бревурт провожал дочь к очередному светилу, ради которого они сюда прибыли. Пространные и по большей части невразумительные речи Леопольда Бревурта, какими он сопровождал знакомство, всегда вызывали тревогу и сожаление в глазах хозяина. Его доктрины не только сделались донельзя премудрыми, но и перемежались мешаниной из французских, немецких и итальянских словес, в основном вымышленных. Некоторые из этих академиков и мистиков бывали впечатлены познаниями Хелен в Священном Писании, ее ученостью и смелым обращением с различными эзотерическими догмами. Почуяв их интерес, мистер Бревурт пытался сказать что-нибудь, но его останавливали воздетой рукой и игнорировали до конца встречи. Иные из этих наставников просили его покинуть комнату. После чего, бывало, хватали Хелен за колено с наставнической теплотой, но вскоре отдергивали руки, пугаясь ее убийственной бесстрастности и немигающего взгляда.
Детство свое Хелен оставила в Олбани. Будучи вечно в разъездах, она встречала мало сверстниц, и эти мимолетные встречи не успевали перерасти в дружбу. Чтобы занять чем-то время, она учила языки по книгам, которые перевозила от одного дома или отеля до другого, – она брала La Princesse de Clèves из книжного шкафа в Ницце и ставила на полку библиотеки в Сиене, взяв с нее I viaggi di Gulliver, которой восполняла позаимствованную в Мюнхене Rot und Schwarz[6]. Все так же страдая бессонницей, она защищалась книгами от натиска абстрактных ужасов. Когда же книги не справлялись, она обращалась к дневнику. Дневники сновидений, которые отец заставлял ее вести в течение нескольких лет, привили ей привычку записывать свои ежедневные мысли. Со временем, когда отец перестал читать ее записи, сновидения уступили место размышлениям о книгах, впечатлениям от посещенных городов и сокровенным страхам и желаниям ее «белых ночей».
На заре ее юности произошло одно неприметное, но существенное событие. Она гостила с родителями на вилле миссис Озгуд, в Лукке. Нагулявшись по территории и осоловев от жары, она стала бродить по пустому дому. Кроме них никого на вилле не было. Прислуга, заслышав ее шаги, спешила прочь. На прохладном терракотовом полу раскинулась спящая собака, закатив приоткрытые глаза, и смотрела судорожные сны. Хелен заглянула в гостиную: ее отец и мистер Озгуд спали, сидя в креслах. Какое-то дурное чувство овладело ей, пробудив смутное желание сделать что-то нехорошее. Она поняла, что достигла самого дна скуки. А по другую сторону было насилие. Развернувшись на каблуках, она снова вышла в сад. Дойдя до тенистого места, где мать с хозяйкой попивали лимонад, она твердо заявила, что пойдет прогуляться по городу. Может, дело было в ее безапелляционном тоне, может, в том, что мать была увлечена многозначительным перешептыванием с миссис Озгуд, а может, в том, что орехово-медная Лукка лучилась благолепием в тот день, но возражения не последовало – миссис Бревурт лишь покосилась на дочь и пожелала ей хорошей пасседжаты[7], только не слишком далеко. Вот так для Хелен началась новая глава, чего никто, кроме нее, не заметил. Впервые в жизни она вышла в мир сама по себе.
Ставшая явью мечта о независимости так ее ошеломила, что она почти не замечала ни проселочной дороги, ни окрестностей, но, войдя в город, встрепенулась, впервые столкнувшись с его оштукатуренной тишиной. Все, что она слышала на пустых улицах, – это сухой перестук своих туфель по булыжной мостовой. Периодически она легонько подволакивала ногу, чтобы услышать шуршание кожи по камню, и по шее у нее пробегали мурашки. С каждым пройденным кварталом городок оживал. Желая продлить восторг, вызванный изначальной тишиной, Хелен с озорной решимостью направилась прочь от голосов, долетавших с перекрестков, от меркантильного гомона, доносившегося с площади, от плавного перестука копыт за углом и от женщин, перекрикивавшихся между окнами, снимая стирку с веревок, – в сторону переулков с домами, закрытыми ставнями от жары, где ей снова стал слышен звук собственных шагов. И тогда она поняла, что отныне всегда будет стремиться к этой возвышенной радости, такой чистой, ибо беспричинной, и такой надежной, ибо необоснованной.
Пытаясь обойти шумную площадь, где, судя по всему, отмечалась какая-то религиозная festa[8] или юбилей, Хелен оказалась на улице с лавочками. Одна из них выглядела двойным анахронизмом. Не только из-за скромных размеров городка, но и благодаря его этрусскому прошлому, придававшему средневековым церквям впечатление подделки под старину, фотоателье сюда совершенно не вписывалось. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это неуместное видение из будущего в действительности вовсе не ново. Портреты в витрине, фотоаппараты и предлагаемые услуги – все это отсылало к первым дням фотографии. И этот полувековой зазор между фотоателье и современностью почему-то подействовал на Хелен сильнее, чем двадцать веков, истекшие со времени основания городка. Она вошла.
Обстановка ателье в мутном свете, проникавшем сквозь плавно запыленные окна, несколько сбивала с толку. Сначала Хелен подумала, что мензурки, пипетки и странная стеклянная посуда наряду с маркированными колбами, бутылочками и баночками, загромождавшими помещение, представляли собой богатый фотореквизит, включавший также велосипеды и римские шлемы, парасольки[9] и чучела животных, кукол и мореходную атрибутику. Но постепенно до нее дошло, что это место застряло где-то на полпути между наукой и искусством. Не то лаборатория химика, не то студия художника. Казалось, что одна, что другая уже давно почили в бозе, так и не придя к согласию.


