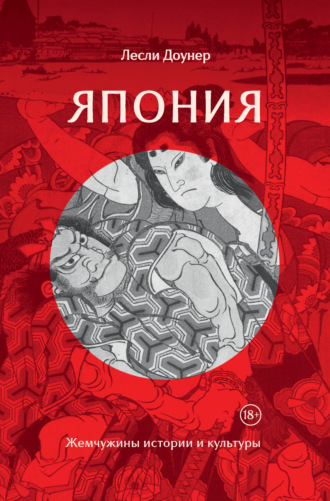
Полная версия
Япония. Жемчужины истории и культуры
Именно в ту эпоху вышло из употребления название «Ямато», то есть страна Ва (Ва – уничижительный китайский термин, означающий «карлик»). Вместо него стал использоваться эпитет «Нихон» – Страна восходящего солнца.
Император Тэндзи умер в 672 году. В 708 году государыня Гэммэй, дочь Тэндзи и четвертая великая императрица Японии, решила, что пришла пора основать столицу с фиксированным местоположением. Она выбрала местность под названием Хэйдзё. Оттуда открывался более удобный доступ в провинции, на которые двор стремился распространить свою власть. Так в истории Японии началась совершенно новая эпоха.
2. Нара: расцвет буддизма
710–794
Прекрасная в лазури голубой
Столица Нара,
Как цветок расцветший,
Теперь настал
Ее сверкающий расцвет![3]
Песня Ону Ою, второго заместителя генерал-губернатора Дадзайфу. Манъёсю, 328Это было время, когда на улицах Нары, первого настоящего города Японии, лицом к лицу сталкивались люди, прибывшие из разных стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Новая религия, буддизм, вдохновила японцев на создание восхитительных храмов и статуй. Однако власть, которую получило буддийское духовенство, оказалась слишком велика…
Город в конце Шелкового путиВ 708 году на плодородной равнине, до которой можно было добраться из Асуки за полдня, поднялся громкий шум: там началась большая стройка. На нее согнали тысячи подневольных крестьян. В течение двух лет они перекапывали и выравнивали почву, закладывали камни в фундаменты, рубили деревья, что-то неустанно пилили, стругали, шлифовали, красили, и мало-помалу город рос.
Хэйдзё-кё, или Нара, создавался по образу и подобию Чанъани – великолепной столицы танского Китая. Город был спроектирован по системе «шахматной доски». Его пронизывала сетка широких бульваров; одни из них шли с севера на юг, а другие – с востока на запад. Но, в отличие от Чанъани, Нару не окружали со всех сторон стены, потому что в стране царил мир.
Сердцем города был дворец. Он занимал всю северную часть Нары, как требовали принципы фэн-шуй, определяющие, где нужно возвести постройку, чтобы обеспечить гармонию и удачу. Дворец представлял собой великолепный комплекс величественных зданий с крышами из зеленой черепицы, с красными колоннами, украшающими фасады. Вокруг простирались обширные сады.
Внутри дворцового комплекса размещались две ветви власти: Большой государственный совет, который вершил дела правления, и Палата божеств, куда входили мастера ритуалов – посредники между людьми и ками.
На улицах, ориентированных по сторонам света, возвышались алтари ками и буддийские святилища, которые защищали город от влияния злых сил. В храмах обязанностью монахов и монахинь было декламировать сутры, чтобы обеспечить благо стране.
Самой шумной и оживленной частью города были два рынка – Западный и Восточный. Торговцы из Индии, Китая и Кореи продавали здесь шелк и предметы роскоши, которые доставлялись по Великому шелковому пути. Их везли из Греции, Индии, Персии и Византии. Япония являлась крайней восточной точкой маршрута. На рынках изысканные ткани были представлены в таком изобилии, что правительство даже выпустило несколько эдиктов, которые устанавливали, какого цвета одежду разрешается носить людям того или иного социального положения.
В VIII веке Япония была чрезвычайно космополитичной страной. На ее шумных улицах и площадях Восток встречался с Западом. Гости из Китая, Индии и прочих стран Азии стремились в Нару, к императорскому двору. А местные художники в это время изучали буддийское искусство Китая, которое, в свою очередь, находилось под влиянием Индии и прочих стран Шелкового пути.
В Китай направлялись морем торговые миссии, в которые входили дипломаты, студенты, буддийские монахи и переводчики. Сойдя на берег, они пересаживались в запряженные повозки, в паланкины или шли пешком. Так они добирались до Чанъани. Путешествие длилось много месяцев и было сопряжено с немалыми опасностями. Некоторые японцы оставались вдали от дома 30 и более лет. Зато по возвращении из Китая они приносили с собой передовые технологии, сведения о социальном устройстве, истории, философии, искусствах, архитектуре, манере одеваться – и в результате получали высокие государственные должности.
Нара стала первым настоящим городом Японии. В момент ее расцвета там проживало 200 000 человек, притом что всего в стране было шесть миллионов жителей. Население распределялось по южным двум третям острова Хонсю и большей части Кюсю. Территория делилась на шесть провинций, а они, в свою очередь, на районы и деревни. Существовала сеть дорог с почтовыми станциями. Чиновники, находящиеся в служебной поездке, и люди, занятые перевозкой грузов, могли получить там лошадей.
Императрица Гэммэй прекрасно понимала, что семья Ямато – всего лишь одна из многих знатных семей. Если царственному роду изменит удача, его место моментально займут другие. Создание столицы, которая превратилась в символ благодетельного правления императоров Ямато и их всесильных советников из рода Фудзивара («глициния»), было способом утвердить легитимность своего правления перед лицом предводителей кланов-конкурентов.
Но одного этого было недостаточно. Династии требовалась история, которая бы прочно укоренила ее в прошлом.
Ореол древностиЗа 25 лет до того, как императрица Гэммэй взошла на трон, ее дядя, император Тэмму, приказал собрать повествования, связанные с историей двора и главных кланов, сличить их друг с другом и заучить наизусть. В Японии бытовало огромное количество мифов, исторических преданий, стихов и песен, которые веками передавались и устно, и письменно. То были легенды о сотворении мира, о богах и богинях, героях и древних императорах, о гадании и ритуалах. Но никаких письменных хроник не сохранилось. Два исторических труда, которые создал принц Сётоку, погибли в огне, а летописные записи, сделанные в других кланах, тоже так или иначе были утрачены.
Император Тэмму призвал к себе 28-летнюю особу по имени Хиэда-но Арэ, обладавшую необыкновенной памятью. Существует версия, что Арэ была женщиной и служила при дворе камеристкой. Она была «от природы талантлива и умна и могла наизусть продекламировать прочитанное один раз и запомнить услышанное один раз». Ученые стали диктовать ей летописи, и она загружала в свою поистине бездонную память всю мифологию и историю Японии – и писаную, и переданную изустно.
На этом все и остановилось, пока на трон не взошла императрица Гэммэй. Она приказала Арэ надиктовать усвоенный ею огромный массив информации некому ученому, который его записал.
«Кодзики» («Записи о деяниях древности») записаны китайскими знаками. Работа над сочинением была завершена в 712 году, оно состоит из трех томов. Начинаются «Записи» с сотворения Японии, когда Идзанаги окунает копье в первозданные хляби. Аматэрасу, богиня-прародительница клана Ямато, представлена как глава пантеона, которой подчиняются более мелкие божества – прародители других кланов. Далее идет рассказ о том, как Ниниги, внук Аматэрасу, спустился на землю и как его правнук Дзимму стал первым императором и основателем правящей династии. Затем излагается родословная императоров, связывающая их по прямой с богиней Аматэрасу. К их генеалогии привязаны генеалогии прочих знатных родов. В «Кодзики» также описаны церемонии, обычаи, практики магии и гадания, принятые в Древней Японии.
Восемь лет спустя ученые завершили работу над вторым историческим произведением «Нихон сёки» («Японская летопись»). Если «Записи о деяниях древности» предназначались для использования внутри страны, то «Японская летопись» написана на традиционном классическом китайском и построена по образцу китайских династических хроник, где фигурировала царица Химико. Этот исторический труд можно было с гордостью демонстрировать иноземным послам. Он показывал, что японцы ничем не хуже китайцев и располагают столь же внушительной историей. «Записи» опирались исключительно на устную традицию, которая из поколения в поколение бытовала в придворной среде, а «Летопись» использовала разнообразные источники, в том числе китайские хроники.
Как и «Записи о деяниях древности», «Японская летопись» начинается с эпохи богов и затем переходит к череде божественных императоров, начиная с Дзимму, жившему в VII веке до н. э. Далее повествование подводит к правлению императрицы Дзито, которая приходилась сестрой императрице Гэммэй.
Ни в «Записях», ни в «Летописи» царица Химико не упоминается. Зато в них есть захватывающее повествование об императрице Дзингу (201–269), даты жизни которой близки к эпохе Химико (170–248). Как и Химико, Дзингу была шаманкой и воинственной правительницей. «Летопись» сообщает, что после смерти мужа она возглавила войско, хотя находилась на позднем сроке беременности. Рождение ребенка она задержала на три года, до окончания войны. Ее сын, будущий император Одзин, руководил сражением, отдавая приказы из чрева матери. Некоторые японские ученые доказывают, что Дзингу и Химико – одна и та же личность и что Химико – это просто имя, под которым правительница стала известна китайцам.
Обе книги заключают в себе полный комплекс сведений о японской мифологии и истории и являются важнейшими текстами синто.
Однако неповторимый колорит эпохи Нара определяла не религия синто, а буддизм с его великолепными церемониями и расточительно щедрой благотворительностью.
Большой БуддаИмператор Сёму был глубоко верующим буддистом. Начало его правления омрачали бедствия: сначала суд над наследником престола, его казнь по ложному обвинению, затем эпидемия оспы, которая выкосила треть населения, а потом еще и восстание на острове Кюсю. Чтобы подавить мятеж, Сёму собрал огромное войско. После этого он несколько раз переносил столицу, чтобы избежать осквернения и лишить силы дурные знаки. В конце концов он пришел к мысли: чтобы избавиться от бед, нужно воздвигнуть гигантскую бронзовую статую Будды, дабы он проявил милость и взял страну под свою защиту.
Прежде всего император отправил пожилого буддийского священнослужителя в великое святилище в городе Исэ, где поклоняются Аматэрасу, чтобы выяснить, не оскорбит ли ее создание статуи. Почтенный буддист семь дней и ночей декламировал сутры, и наконец оракул возвестил, что план императора не только не оскорбляет Аматэрасу, но даже весьма ей угоден, потому что она и сама является воплощением Будды. Так был достигнут компромисс между буддизмом и религией синто, которые по сей день благополучно сосуществуют.
Изготовление Большого Будды заняло три года. Статую удалось отлить только с восьмой попытки. Над проектом работали более 350 000 подневольных крестьян. Ради него 2 600 000 человек обложили податями, которые уплачивались рисом, древесиной, металлом, полотном или работой. На изготовление статуи пошли все имевшиеся в стране запасы меди и золота. Чтобы было где разместить изваяние, Сёму приказал построить грандиозное храмовое здание – Тодайдзи, Великий восточный монастырь.
В 752 году на церемонию открытия глаз статуи собрались высокие гости, прибывшие издалека, даже из самой Персии. Помимо них, на ритуале присутствовали 7000 придворных, 10 000 монахов и 4000 танцовщиков. Досточтимый индийский мудрец Бодхисена нарисовал изваянию зрачки и тем самым символически оживил его. Гости привезли с собой диковинные дары из стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, – из Китая, Индии, Центральной Азии, Греции и Рима. Это были ткани, косметика, благовонное дерево, лютни, инкрустированные перламутром, золотые филигранные ножны, персидские чаши из резного стекла – словом, все, что могло украсить жизнь императорского двора VIII века с его утонченной космополитической культурой.

Статуя Большого Будды имеет весьма внушительную высоту – целых 15 м. Изваяние было полностью покрыто сверкающим слоем листового золота
© Wikimedia Commons / Fg2
Под покровительством государя Сёму страна перенимала элегантность и блеск китайской культуры, а буддийское духовенство становилось все более могущественным. Из танского Китая вернулись ученые. Один из них привез важные конфуцианские тексты, а также искусство вышивки, лиру и игру в го. Сёму сделал его советником по законодательству, военному делу и музыке. Другой доставил на родину 5000 свитков с текстами буддийского канона и комментариями к ним.
Замысел Сёму заключался в том, что Япония должна превратиться в оазис буддизма в Восточной Азии. Все свои силы и все ресурсы страны он бросил на то, чтобы сделать ее по меньшей мере столь же блистательной, как танский Китай. Создание Большого Будды стало апофеозом замечательного расцвета искусств. Император приказал строить по всей стране храмы и монашеские обители, по одной на каждую провинцию. Главным храмом оставался Тодайдзи. Используя бронзу, дерево, глину, лак, художники изготавливали для него изысканные статуи, изображающие Будду и других персонажей буддизма.
Буддизм сделался официальной государственной религией, но общенародной верой так и не стал. Шесть школ буддизма эпохи Нара были прерогативой священнослужителей, которые проводили время, дискутируя о сложных, трудных для понимания теоретических вопросах.
Буддизм не предлагал простым людям никакого утешения – а ведь их жизнь была поистине ужасна. Крестьяне платили неподъемные налоги, которые уходили на строительные проекты императора Сёму, и часто страдали от засухи, приводившей к страшному голоду. Им также приходилось исполнять различные повинности. Создание Большого Будды полностью истощило все запасы меди и золота, и страна была практически разорена.
За стенами городов, в сельской местности, жизнь была невыносима. Но при дворе царил ослепительный расцвет – правда, не в изобразительном искусстве, а в литературе.
Задолго до 400 года н. э., когда Япония познакомилась с искусством письма, ее жители уже слагали стихи. Самые древние записанные стихотворения датируются V веком. Не только каждый придворный, но и вообще каждый человек, который желал слыть культурным, считал своим долгом сочинять стихи по поводу любого события своей жизни, от самого мелкого до самого значительного. В 760 году один поэт и любитель древностей собрал поэтическую антологию, включающую более 4500 стихотворений. Некоторые из них передавались в устной форме, другие, начиная с 600 года, в письменной. Эти поэтические тексты позволяют нам заглянуть в жизнь людей, которых отделяет от нас много веков. Мы можем бросить беглый взгляд на этот мир, насквозь пронизанный культурой. Образованность (а владение стихом было ее частью) служила в нем признаком настоящего человека. В этом мире мужчина был готов рискнуть жизнью ради того, чтобы его стихотворение вошло в императорский поэтический сборник, а женщина могла поставить себя под угрозу опалы, чтобы принять участие в состязании стихотворцев.
«Манъёсю» («Собрание десяти тысяч листьев») является первой японской поэтической антологией, а по мнению многих, также и лучшей. От стихов, входящих в нее, веет свежестью – ведь их написали еще до того, как появились правила и каноны. Многие из авторов были придворными, но есть там и стихи, сочиненные жителями провинций, стражниками, охраняющими границу, крестьянами и даже нищими. Многие стихотворения воспевают природу и японский пейзаж, состоящий из гор и моря. Поэты слагают страстные строки о любви, тоске, страдании, бедности и смерти. В них часто звучит меланхоличная горечь, плач по быстротечности человеческой жизни и тоска по минувшим столетиям.
Один из авторов описывает страдания нищего, который продрог на морозе, грызет кусочек соли и пьет недопитые кем-то остатки сакэ. Другой видит мертвеца, лежащего на горном перевале, и размышляет о том, с какой любовью жена умершего, наверное, ткала полотно для одежды, которая сейчас надета на трупе.
Какиномото-но Хитомаро, один из величайших поэтов за всю историю Японии, пишет о войне и смерти, о скалистом морском побережье, о том, какую невыносимую тоску он испытал при разлуке с женой, когда был назначен на должность в столицу.
В антологии есть и стихи, сложенные женщинами. Среди поэтесс – принцесса Нукада, которая сопровождала императрицу Саймэй в 661 году, когда государыня отправилась в военную экспедицию против Кореи. Поэтесса описывает, как они «ждали луну» перед тем, как сесть на корабли. «Наступил и прилив… Вот теперь я хочу, чтоб отчалили мы!» – восклицает Нукада.
Японский РаспутинВ 740 году, когда дочь императора Сёму взошла на трон, экономика Японии была разрушена до основания. Строительство храмов, затеянное императором, разорило страну. Голод и эпидемии пали непосильной тяжестью на плечи крестьянства. А буддийское духовенство между тем становилось все сильнее и сильнее.
Императрица Кокэн была столь же религиозна, как ее отец, и назначила на придворные должности многих буддийских священнослужителей. Окрыленные высочайшим покровительством, духовные лица стали втягиваться в политику. Вся их жизнь была теперь посвящена интригам и мздоимству. Храмы не платили налоги, имели в собственности огромные поместья и эксплуатировали крестьян, работавших на этих землях.
Но высшей точки все эти проблемы достигли, когда императрица заболела и ее исцелил харизматичный монах по имени Докё. Он происходил из захудалого клана, вел аскетическую жизнь, занимался медитацией и читал сутры. По его утверждению, за счет этого он обрел магические силы. Вскоре все кончилось тем, что монах стал фаворитом императрицы и начал давать ей советы в политических делах.
Члены рода Фудзивара, которые правили страной в качестве регентов, ненавидели этого выскочку. Канцлер Фудзивара-но Накамаро, разгневанный тем, что его власть оказалась под угрозой, поднял мятеж. Однако императрица была женщиной волевой и независимой. Она собрала войско, взяла Накамаро в плен и казнила его.

Императрица Кокэн приказала изготовить миллион маленьких пагод высотой от 10 до 20 см, в каждую из которых была вложена молитва
Из собрания Музея искусств университета Мичигана. Приобретена при поддержке организации Margaret Watson Parker Art Collection Fund 21 февраля 1969 г.
В благодарность за спасение Кокэн приказала изготовить десять миллионов ступ – миниатюрных деревянных пагод. Внутри каждой находился свиток с молитвой, которая была напечатана либо с бронзовых пластин, либо с помощью деревянных досок. Это один из самых ранних в мире примеров печати текста, и он имел место сразу после изобретения книгопечатания в Китае и за 700 лет до того, как Гутенберг изобрел печатный станок на Западе. Изготовленные таким образом ступы императрица распределила между десятью крупными монастырями.
Теперь государыня держала бразды правления в собственных руках и назначила Докё сначала канцлером, а затем «императором Закона Будды». Она повелела строить буддийские храмы, делала на них расточительные пожертвования и запретила подавать на императорский стол мясо и рыбу.
Но потом Докё зашел слишком далеко. Под его давлением оракул одного почитаемого святилища на острове Кюсю предсказал, что в Японии воцарится нескончаемый мир при условии, что он, Докё, станет императором. Это было неслыханной дерзостью – ведь тем самым ставилось под сомнение сакральное исключительное право на трон, которым обладала императорская фамилия.
Императрица отправила к оракулу собственного гонца, и на сей раз ответ гласил, что ни один человек, не принадлежащий к императорской династии, не имеет права занимать трон. Докё сослал вестника и по-прежнему продолжал пользоваться покровительством императрицы. Однако год спустя она умерла. Докё лишили всех титулов и изгнали из Нары. Он избежал казни лишь потому, что убийство священнослужителя считалось тяжелейшим грехом. Никто не желал навлечь на себя месть покойного.
Императрица Кокэн была одной из самых могущественных женщин в японской истории. После ее смерти род Фудзивара восстановил свою власть и объявил, что буддийские священнослужители больше не смогут вмешиваться в государственные дела. Фудзивара также издали указ о том, что отныне трон будет передаваться только мужчинам, поскольку женщины слишком легко подпадают под чужое влияние. Прошло целых 900 лет, прежде чем на трон снова смогла взойти женщина. Столица была также перенесена в другое место, подальше от Нары и ее не в меру активных духовных лиц.
Побег от столичного духовенстваВ 784 году новый император, Камму, приказал построить новую столицу в Нагаоке, неподалеку от нынешнего Киото. Это было сделано якобы для того, чтобы избежать влияния дурных предзнаменований и ритуального осквернения, сконцентрированных в Наре. Но истинная цель заключалась в том, чтобы отлучить верхушку буддийского духовенства от политики и государственных дел: ведь столица переместилась, а буддийские храмы со своими служителями остались на прежнем месте.
Камму вошел в историю как величайший император Японии. Будучи человеком энергичным и амбициозным, он силой воли и дальновидностью не уступал своему современнику Карлу Великому, который жил на другой стороне земного шара. Камму был полон решимости преодолеть трудности, которые терзали его страну, и сделать императорскую власть недосягаемой для чужого влияния, будь то влияние буддийских священников или вообще чье угодно.
Новое местопребывание императорского двора располагалось на большом холме, возле которого со всех сторон текли реки – значит, удобно будет переправляться по воде. Сюда, в Нагаоку, каждая провинция отправила налоги, собранные за целый год, вместе с материалами, необходимыми для стройки. День и ночь здесь трудились 300 000 человек. Еды и одежды с трудом хватало на всех строителей. И уже через пять месяцев после начала работ император переехал в новый дворец.
Но над новым городом с самого начала тяготел злой рок. Только успел двор туда переехать, как были убиты два государственных деятеля из рода Фудзивара – главный архитектор нового города и императорский фаворит. В преступлении обвинили брата Камму, принца Савара. Его отправили в изгнание; в пути он скончался. Вскоре после этого заболел 12-летний сын Камму; говорили, что им овладел гневный дух убитого дяди. Сколько бы подношений ни делали в храмы, сколько бы молитв ни возносили богам – мальчику не становилось лучше. Затем разразились ужасная засуха и голод. На улицах столицы было множество больных и умирающих людей.
В спешке принца Савара посмертно объявили императором, и ребенок выздоровел. Но было ясно, что столицу, оскверненную присутствием призрака, необходимо покинуть.
В 793 году Камму сделал вид, что отправляется на охоту, а сам взял с собой императорских гадателей и поехал искать новое место для своей столицы. Теперь-то уж все должно было пройти безупречно! Так началась новая эпоха – со строительства славного города, который оставался столицей Японии в течение тысячи лет. Нам он известен под названием Киото.
3. Хэйан: город пурпурных холмов и хрустальных рек
794–1180
Я нарекаю этот город именем Хэйан-кё – «столица мира и покоя».
Император Камму, 794 годЯпонцы последующих веков станут ностальгически тосковать по эпохе Хэйан. Она будет им казаться золотым веком, когда придворная культура достигла наивысшей точки развития. Закутанные в многослойные одеяния женщины с длинными волосами, ниспадающими до земли, довели до совершенства искусство слагать стихи, красиво одеваться, смешивать благовония и творить прекрасное. В те дни жили создательницы бессмертных романов, например «Повести о Гэндзи», которая стала краеугольным камнем всей японской культуры. Но это интровертное общество уже несло в себе семена собственной гибели…
Мир и спокойствиеВ десятом месяце 794 года император Камму, который на тот момент был уже пожилым человеком, уселся в запряженный быками экипаж и отправился в Нагаоку – свою новую столицу. Его сопровождала огромная процессия. Там были знатные дамы и господа, воины в церемониальных доспехах, глашатаи, стражники, носильщики, нагруженные багажом, и бесчисленное множество разных слуг.
Хэйан-кё, «столица мира и покоя», располагалась в долине, вокруг которой вздымались лесистые холмы. Выбранное место идеально соответствовало всем требованиям фэн-шуй. На северо-востоке (это направление считалось несчастливым) находилась гора Хиэй, где буддийская община создала цитадель, призванную отражать все дурные влияния. Две реки соединяли город с морем, а дороги вели из него в восточные провинции. Поэты называли новую столицу «городом пурпурных холмов и хрустальных рек».
Здесь стали расти дворцы, разрисованные киноварью, храмы с тонкими, стройными колоннами, просторные деревянные особняки с плетеными крышами. По длинным прямым улицам с грохотом катились разукрашенные экипажи с огромными деревянными колесами, запряженные быками. В них восседали принцы и просто аристократы. За каждой такой повозкой следовал кортеж из всадников, одетых в личные цвета своего господина. Как и Нара, город был выстроен по образу гигантской шахматной доски, но только гораздо большего масштаба. Вдоль каждой улицы посередине проходил канал, берега которого были усажены зелеными ивами.



