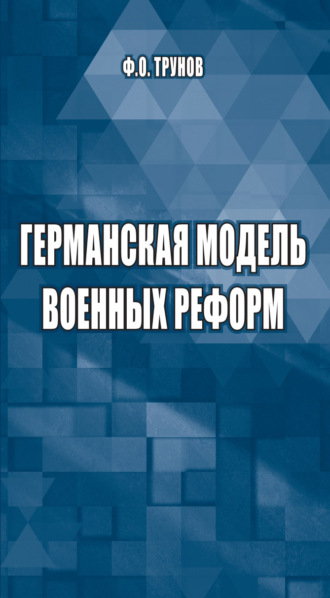
Полная версия
Германская модель военных реформ
Геометрически военная реформа представляет собой не прямую, но изогнутую линию, включающую как минимум три этапа. В ходе первого чётко формулируются планы, осуществляется ломка (полная или частичная) старой военной системы. На втором, основном или кульминационном, этапе осуществляется уже демонтаж всех ненужных элементов и их массовая замена с последующей апробацией. Наконец, на третьем, завершающем, происходит упорядочение вновь сформированной системы с закладыванием возможности внесения в неё частных корректировок, представляющих собой результат эволюции в рамках процесса строительства вооружённых сил. Одновременно осуществляется рост их количественных параметров.
Именно на последовательном изучении каждой из данных фаз – особенностей, «узких мест», промежуточных результатов, а главное – «механики» осуществления – предполагается выстроить представленное монографическое исследование.
* * *Его основными методами избраны: ивент-анализ, т. е. изучение важных шагов в области строительства ВС, сравнительный анализ, а также принцип исторической реконструкции, позволяющий систематизировано изучить процесс преобразований, по возможности восполняя пробелы в освещении их содержания и «узких мест» проведения.
Разумеется, процесс военных реформ в целом и особенно его развитие в конкретных государствах уже давно получают подробное освещение со стороны исследователей. Так, Институтом военной истории Министерства обороны РФ публиковались труды, посвящённые как непосредственно военным реформам в Отечестве[49], так и их изучению в контексте развития военной стратегии страны[50]. Исторически именно со стороны германо-прусского (прежде всего, в Первую мировую войну) и германского (в Великую Отечественную войну) государства исходили наиболее масштабные угрозы для обороны Российской империи и СССР. Притом агрессия Третьего рейха, опиравшаяся на колоссальный и первоначально очень хорошо организованный военный потенциал, несла крупнейшую угрозу для самого существования национальной государственности нашей страны. Всё это обуславливало широкий интерес отечественных исследователей к развитию и прежде всего использованию (что вполне логично) «военной машины» официального Берлина.
Необходимо подчеркнуть, что в отечественной историографии практически не рассматривалась по отдельности сама по себе каждая из военных реформ в Германии (Пруссии), т. е. их сравнительный анализ и тем более выделение общих черт на протяженном историческом отрезке XVIII – начала XXI в. ещё не получили существенного освещения, что обуславливает научную новизну данной монографии. Показательно, что единичными являются работы, представляющие собой попытки осмысления развития «военной машины» Пруссии, германо-прусского государства, Германии на философском уровне[51].
Для специалистов научных школ ФРГ, находящихся под сильным влиянием англосаксонских традиций исследований, характерно рассмотрение процесса строительства вооружённых сил в целом и преобразований в частности с фокусом на социологические сюжеты[52].
В случае военной реформы Фридриха II отечественными историками внимание уделялось историческим предпосылкам зарождения феномена прусского милитаризма ещё в XVII в.[53], общим аспектам стратегии данного монарха[54], а сами преобразования прусской армии рассматривались в основном в контексте боевых действий – Силезских и особенно Семилетней войны[55]. Немецкие историки стремились вписать изучение данного этапа в общую канву развития прусской армии с середины XVII в. до начала XIX в. (вплоть до разгрома Наполеоном старопрусской «военной машины» в 1807 г.)[56].
Распространённым также было изучение военных реформ в контексте строительства вооружённых сил прусского, а затем и германо-прусского государства на ещё более протяженном временном отрезке – до 1933 г. (времени прихода нацистов к власти)[57] или 1945 г.[58]
Преобразования «военной машины» Прусского королевства Г. Шарнхорста – А. Гнейзенау традиционно рассматривались в увязке с поражениями от наполеоновской Франции 1806 г.[59] и в более общем контексте широкой трансформации структуры государства под руководством Г. фон Штейна и А. Гарденберга[60]. Интерес представляет попытка немецких историков исследовать в рамках единого цикла две военные реформы XIX в.[61] Притом менее подробное освещение в отечественной литературе нашли военная реформа в Пруссии начала 1860-х годов – прежде всего, она рассматривалась в контексте войн за объединение Германии[62] и призму полководческого и военно-организационного таланта Х. Мольтке-старшего[63].
Исследователями был создан колоссальный задел в изучении боевых возможностей вермахта и его применении в ходе операций Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Однако, как ни странно, при этом ограничено количество работ, посвященных довоенным преобразованиям «военной машины» Германии – Веймарской республики и первых лет существования Третьего рейха[64], когда формулировались военно-тактические и стратегические установки ведения будущей войны.
Создание бундесвера в 1956–1962 гг. исследовалось в более общем контексте внешней политики К. Аденауэра – прежде всего, идеи общеевропейских (применительно к европейским странам-участниц НАТО и ЗЕС) военных сил[65]. Акцентировалось внимание на глубоких отличиях подхода ФРГ и прусского, а затем и германо-прусского государства к фактору использования военной силы во внешней политике и идеологии. Для немецких исследователей характерно вписывание реформы 1956–1962 гг. в широкий хронологический контекст развития бундесвера в период «холодной войны» в целом[66].
Российские и иностранные исследователи стремились охарактеризовать направленность и дать промежуточную периодизацию преобразованиям бундесвера 1990-х – начала 2010-х годов[67]. При этом наибольшее внимание уделялось прикладным вопросам – новым возможностям, открывающимся при использовании бундесвера вне зоны ответственности НАТО, и их реализации[68]. Публиковались узкопрофильные работы, посвященные отдельным составляющим эволюции вооружённых сил ФРГ в постбиполярную эпоху[69]. Среди немецких аналитиков наибольший интерес к реформированию бундесвера наблюдался по результатам работы комиссии Р. фон Вайцзеккера (2000)[70], проекту министра обороны П. Штрука (2003–2004)[71] и переходу к полностью контрактной армии в 2010–2011 гг.[72]
На фоне педалирования в политической и общественной, в том числе в СМИ, дискуссии внутри Германии вопроса о критическом ослаблении военной мощи как результате длительных редукций её различных составляющих заметно вырос интерес к данной проблематике и в российском экспертном сообществе[73]. Повышенное внимание уделялось вписыванию развития бундесвера в общий контекст видения ФРГ своей современной и перспективной политики в области безопасности и обороны[74]. При этом вопрос о том, какую направленность приобретет вновь стартовавшая на рубеже 2010-х – 2020-х годов военная реформа, в это время ставился в достаточно ограниченном числе работ[75]. Вместе с тем ход, первые промежуточные результаты данных преобразований и их перспективная модель еще не нашли отражение в работах российских экспертов по состоянию на начало третьего десятилетия XXI в., будучи несколько подробнее освещены в трудах немецких исследователей[76].
Глава I. Процесс создания Фридрихом II прусской «военной машины»
1.1. Состояние прусского военного потенциала к началу 1740-х годов
С момента вступления на престол в Бранденбурге курфюрста Фридриха-Вильгельма I (Бранденбургского, 1640–1688) это государство избрало курс на построение собственной военной организации, стремясь увеличивать численность войск[77]. Отталкиваясь ещё от опыта А. Валленштейна в деле создания вооруженных сил в империи Габсбургов в период Тридцатилетней войны, руководство Бранденбурга пошло по пути создания достаточно крупной, однако существенно более дисциплинированной, а главное – постоянной армии. Так, если на момент вступления на престол бранденбургский монарх располагал военными силами численностью 4,6 тыс. солдат и офицеров, то к моменту окончания его правления их количество возросло до 32 тыс.[78] Наличие этой «военной машины», достаточно значительной по меркам малых и средних германских государств (и даже Австрии, где лишь шло становление армии, непосредственно подчинявшейся императору[79]), во многом обеспечило возможность трансформации курфюршества Бранденбург в Прусское королевство, что было провозглашено в 1701 г.
В первые десятилетия его существования курс на дальнейшее наращивание военной мощи был продолжен, особенно при прусском короле Фридрихе Вильгельме I (1713–1740). Уже с 1713 г. в Пруссии была введена пожизненная служба солдат. Параллельно прусские власти осуществляли комплекс мер по укреплению кадрового состава своей армии, особенно офицерского корпуса. Так, власти в Берлине привлекали на службу французских гугенотов (в том числе офицеров), вынужденных покинуть родину после отмены Нантского эдикта (1685)[80].
В последней трети XVII в. Пруссия активно участвовала в конфликтах с участием крупных европейских стран, предоставляя свои войска в обмен на субсидии, неоднократно меняя внешнеполитическую ориентацию: от партнёрства с Людовиком XIV переходя к поддержке (масштабно финансируемой) англо-голландских союзников уже в ходе войны Аугсбургской 1688–1697 гг.[81] Здесь следует отметить, что официальный Берлин активно наследовал военные традиции Нидерландов (прежде всего, тактику Морица Оранского).
Если Бранденбург играл роль малого «спутника» мощных европейских держав, то Пруссия с начала XVIII в. стремилась к более самостоятельному и полновесному участию в крупных конфликтах в собственно военном и политическом отношениях, продолжая проявлять повышенную заинтересованность в получении крупных иностранных дотаций на развитие своей сражавшейся армии, становмвшийся всё более регулярной. Так, прусские войска активно участвовала в войне за «испанское наследство» (1701–1714), в том числе в наиболее крупной по масштабу битве при Мальплаке (1709). Несмотря на значительные потери в этом конфликте, Пруссия активно включилась в борьбу со Швецией в ходе Северной войны (1700–1721) на временно́м отрезке 1715–1720 гг., когда «скандинавский лев» уже лишился существенной части своей военной мощи. Притом во всех указанных конфликтах прусские войска действовали в основном в составе группировок коалиционных сил, стремясь тем самым перенять передовой боевой опыт у союзников[82]. Здесь также необходимо указать, что территория самого Прусского королевства в минимальной степени затрагивалась боевыми действиями, что существенно содействовало сбережению собственных ресурсов для наращивания потенциала «военной машины».
К моменту завершения войны «за испанское наследство» (1714) прусский король имел, несмотря на понесённые потери, в своем распоряжении почти 37 тыс. солдат и офицеров, что составляло 2,4 % от к численности населения всего королевства[83]. К 1740 г. (моменту вступления Фридриха II на престол) численность прусских войск превышала 80 тыс. человек[84], т. е. уже свыше 3,6 % от количества всех подданных короля[85]. По размеру данного показателя – коэффициенту милитаризированности – Пруссия превосходила даже Швецию к началу XVIII в. (свыше 2,5 %): при населении около 3 млн жителей страна имела 76 тыс. войск (63 тыс. на суше и 13 тыс. на море)[86], притом Пруссия имела только сухопутные войска. А ведь именно на это время пришелся наибольший подъём мощи «скандинавского льва», не только контролировавшего финские, прибалтийские и северогерманские территории, но и стремившегося в первую очередь посредством использования своего военного потенциала утвердиться в качестве великой державы[87]. Это сравнение показывает, сколь интенсивно Пруссия готовилась к силовому утверждению своего влияния в Европе, притом длительное время ещё до Фридриха II.
При этом прусские власти оказались перед дилеммой: с одной стороны, они пытались максимально увеличить потенциал своей армии еще в мирное (условно мирное) время. С другой – они стремились не подорвать военными поборами (как финансовыми, так и вербовкой солдат) экономическое благосостояние основной массы горожан и крестьян. Здесь следует отметить, что территории, входившие в состав Бранденбурга – Пруссии, достаточно медленно восстанавливались в смысле роста численности населения от огромных потерь (в том числе мирными жителями) периода Тридцатилетней войны (1618–1648)[88]. С учетом ограниченности людских ресурсов и финансовых возможностей содержание большой армии в мирное время могло быть обеспечено только исключительной экономией государственного бюджета. Пруссия превратилась в «военный лагерь», который или только в экономическом плане (наиболее развитые части государства), или также и с точки зрения направления людей на службу (более отсталые районы страны) работал в интересах армии. Эта милитаризация своеобразным образом отражала каноны XVIII в., когда войны в Европе были «конфликтами монархов и их армий», т. е. мирные обыватели не должны были и в принципе не могли стать участниками боевых действий[89].
Какой был определён путь решения данной проблемы? Это параллельное функционирование двух схем набора войск, что было реализовано еще при короле Фридрихе-Вильгельме I:
– комплектование части войск новобранцами, для поиска и направления которых в полки часть территорий Пруссии была разделена на кантоны, т. е. военно-административные единицы[90]. Обычно один кантон был равен совокупности мест комплектования одного полка. Значительные территории страны были освобождены от кантонной системы, с тем чтобы не подрывать основ экономических возможностей государства. Так, вступивший на престол Фридрих II (1740) освободил от кантонной службы часть западных (вестэльбских) провинций и крупнейшие города на востоке: Берлин, Потсдам, Бранденбург, Бреславль, Магдебург, Штеттин, а также целые сословия чиновников, нарождавшихся буржуа и наиболее искусных ремесленников[91]. Соответственно, значительная часть кантонистов набирались в сельской местности остэльбских и восточнопрусских владений Королевства, в историческом, экономическом и идеологическом отношении (учитывая влияние юнкеров-дворян) являвшихся «ядром» страны. При этом кантонисты в условиях мирного времени могли не находиться на военной службе круглогодично, часть времени занимаясь мирными хозяйственными занятиями. Это положение активно использовалось офицерами-юнкерами, набиравшими в качестве солдат своих крепостных (и забиравшими деньги за их содержание на протяжении большей части года себе). Соответственно, для приведения войск в полную боеготовность требовалось время (по аналогии с мобилизацией в позднейшие эпохи). Численность кантонообязанных составляла примерно 1/3 в начале 1740-х годов[92] до почти 2/3 в отдельные завершающие моменты Семилетней войны[93];
– комплектование другой части войск посредством вербовки наёмников – в первую очередь, в мелких и средних германских государствах западнее и юго-западнее Пруссии (в том числе в Ганновере, Вестфалии и Саксонии), владениях Речи Посполитой и даже австрийских Габсбургов. Кроме того, поиск наёмников осуществлялся и на освобожденных от кантонной системы прусских территориях[94]. Также в качестве наёмников активно использовались захваченные военнопленные (особенно германоязычные – как из малых и средних немецких государств, так и из владений австрийских Габсбургов). В отличие от кантонистов, солдаты-наёмники несли военную службу круглогодично, будучи строго наказываемы (вплоть до смертной казни) за малейшие проступки и особенно попытки дезертирства[95].
Параллельно с этим шло создание собственных оборонных производств (из числа как государственных, так и частных мануфактур), а также открытие государственных конных заводов. С точки зрения формирования системы военного управления значимы были постоянное реальное участие монарха в управлении «военной машиной», а также подбор весьма компетентных (и часто неродовитых) лиц для руководства ею совместно с королем, т. е. возник неофициальный совет из военачальников, обсуждавших широкий круг вопросов развития армии.
Реализация этих мер позволяла Пруссии накапливать мощный потенциал ещё в мирное время. Однако, учитывая ограниченные ресурсные возможности Пруссии по сравнению с другими ведущими игроками в Европе (особенно с точки зрения объёмов людских ресурсов), существенное увеличение войск страны уже в ходе боевых действий (особенно в случае их затягивания) становилось весьма проблематичным. Соответственно, динамично развивавшаяся к середине XVIII в. прусская военная стратегия своей целью имела подготовку и проведение максимально быстротечных наступательных (агрессивных по природе) войн. Это выражалось в первую очередь в поиске форм тактического[96] искусства, которые бы позволили быстро разбивать группировки войск неприятеля – прежде всего, посредством создания угрозы окружения. Для этого Фридрих II использовал свой знаменитый приём – «косую атаку», которая теоретически позволяла быстро выводить из строя большие массы войск противника, заставляя его искать мира или перемирия.
1.2. «Механика» «косой атаки» и её роль как предтечи кессельшлахта
Необходимо подчеркнуть, что в 1740–1750-е годы целеполаганием осуществляемых преобразований армии в целом и особенно считавшихся основными родов войск – пехоты и конницы – была максимальная «заточенность» на осуществление «косой атаки». Поэтому для понимания динамики и промежуточных результатов процесса военного строительства в Пруссии при Фридрихе II следует подробнее остановиться на сущности данного тактического приёма построения и применения масс войск.
Уже в ходе Силезских войн (1741–1742 и 1744–1745) прусское командование стало вырабатывать основы «механики» «косой атаки». Её схема представляла собой соединение следующих элементов:
– возможность поворота на 900 или на даже 1800, с тем чтобы сразу ввести максимум своих сил против одного из флангов противника и тем (даже при общем неблагоприятном соотношении сил) быстро сокрушить его. Затем следовало обращение войск против остальных неприятельских сил, причем по возможности с тыла. Большинство европейских армий – кроме самой прусской, что показала битва при Мольвице (1741) и российской, что продемонстрировало сражение при Цорндорфе (1758)[97] – крайне болезненно реагировали на возможность вести сражение «перевернутым» фронтом, т. е. ситуации, когда вторая линия оказывалась первой, а обоз и резерв вынуждены были составлять авангард;
– концентрация подавляющего большинства конницы на одном фланге (а не распределение поровну между обоими) для максимального массирования сил на направлении главного удара. При этом обычно первой фазой сражения выступала имитация атак (или их осуществление) более слабым кавалерийским флангом с целью отвлечения внимания и сковывания сил противника;
– таранное рассечение обороны противника (на одном фланге или, намного реже, – в центре), с тем чтобы подобно «расстегивающейся молнии»[98] войти в глубину расположения сил противника, получая возможность атаковать расположенные в центре пехоту и на другом фланге конницу (уже с тыла);
– выполнение пехотой, построенной в две линии, функций лобовых атак как сковывающего, так и особенно прорывного (особенно в случае обрушения флангов под действием прусской конницы) характера;
– максимальное удлинение строя пехотных батальонов (что, соответственно, вело к увеличению протяженности всего фронта прусских войск) для обеспечения занятия конницей охватывающего положения еще до начала сражения;
– стремление к сохранению данного охватывающего положения в отношении противника на протяжении всего сражения.
В случае с пехотой это вело к тому, что количество батальонов в первой линии превышало, причем подчас значительно, их количество во второй линии. Кроме того, существовала практика размещения позади менее хорошо укомплектованных батальонов (особенно потрепанных в предыдущих боях и понесших потери дезертирами)[99].
С точки зрения концентрации ударной мощи в первой линии (как сил пехоты, так и кирасир, до Семилетней войны считавшихся наиболее уважаемым видом конницы) построение прусской армии тесно перекликалось со «свиньей», используемой рыцарями – в первую очередь, ливонскими в XIII в. на пике первого в истории «Drang nach Osten». Прежде всего, это объяснялось общим как пруссаков (не сумевших в XVIII в. осуществить свой «Drang nach Osten» на Речь Посполитую, а затем, при благоприятном развитии событий, и на Российскую империю), так и крестоносцев стремлением достигнуть максимально быстрой победы как в ходе конкретного сражения, так и военной кампании в целом. Иными словами, обе рассмотренные стороны исповедовали концепцию «молниеносной войны» (нем. Blitzkrieg). И крестоносцы в Прибалтике, и Пруссия XVIII в. обладали уже отлаженной в условно мирное время «военной машиной» с первоклассными войсками в первой линии. Однако восполнение потерь, особенно в случае затягивания боевых действий, представлялось достаточно проблематичной задачей. Прежде всего, это объяснялось большим временны́м отрезком и трудозатратами, необходимыми на подготовку каждого вновь набираемого бойца, особенно в тех имевших жёсткую внутреннюю логику построениях, которые применяли как крестоносцы в Прибалтике, так и позднее уже прусская армия. В условно мирное время войска имели возможность тщательно отрабатывать взаимодействие: каждый солдат и унтер-офицер (как и ранее рыцарь и его оруженосец) хорошо знал свое неизменное место в боевом порядке, наладив взаимодействие с бойцами-соседями. В военное время вновь прибывшим пополнениям было крайне сложно быстро научиться действовать как опытным воинам. Особенно данная характеристика относилась к насильно завербованным (в случае крестоносцев – представителям прибалтийских племен, служивших в основном в пехоте; в случае пруссаков – наёмникам, особенно из числа пленных другой стороны). Таким образом, для пруссаков (и крестоносцев) продолжительность активных боевых действий и способность сохранять высокий уровень боеспособности армии оказывались в прямо противоположной зависимости. Также примечательно, что как для крестоносцев, так и пруссаков было характерно выделение слабого резерва. Представляется, что это объяснялось не только стремлением максимально нарастить силу удара, но и уверенностью, подчас чрезмерной, в исходе сражения в свою пользу.
Однако в построении крестоносцев («свиньей») и прусских войск существовали и глубокие, в том числе видимые невооружённым взглядом, отличия. Во-первых, если крестоносцы в Прибалтике стремились максимально сузить острие удара (в первом ряду ехали лишь 2 (!) рыцаря[100]), тем самым предельно углубляя вводимые в сражения боевые порядки, то пруссаки, наоборот, постоянно стремились к расширению своего фронта. Прежде всего, это отличие объяснялось тем, что рыцари Ордена не стремились к окружению противника как таковому, а считали, что прорыв фронта и последующее ослабление флангов достаточны для одержания уверенной победы, ибо в этой ситуации обычно противник начинал бежать. Этот тактический просчет в полной мере проявился во время Ледового побоища (1242), когда фланги русских войск, состоявшие из отборной конницы (в основном конных великокняжеских дружин), смогли окружить потерявшую свой порядок «свинью»[101]. Напротив, пруссаки стремились к окружению (высшей форме тактического искусства) или как минимум полуохвату сил противника.
Во-вторых, в прусских войсках пехота играла несоизмеримо бо́льшую роль (и имела совершенно иной удельный вес в составе войск в целом), чем у крестоносцев. Это объяснялось резко возросшими боевыми возможностями благодаря широкому комплексу причин: поражающему эффекту огнестрельного оружия, высокой обученности регулярных войск на фоне того факта, что всё же не менее трети пехотинцев являлись прусскими подданными по рождению, а не набираемыми из числа покоренных прибалтийских племен. Кроме того, содержание одного пехотинца (с учетом выполняемой им боевой нагрузки) было существенно меньше, чем у кавалериста.
Как уже отмечалось, целью прусских войск при осуществлении «косой атаки» являлось окружение, а чаще полуокружение противника. В этой связи возникает логичный вопрос: можно ли «косую атаку» рассматривать в качестве предтечи кессельшлахта, т. е. основной тактики по окружению противника, используемой вермахтом в годы Второй мировой войны?
С точки зрения автора, ответ на данный вопрос является положительным. Обе тактические схемы близки по своей сути: это расположение многочисленных, обладавших достаточно высокой огневой мощью пехотных частей (и соединений) в центре для сковывания противника и уничтожения уже после достижения прорыва. А для осуществления последнего использовались имевшие эшелонированное построение мобильные войска. Разумеется, в отличие от танковых дивизий нацистской Германии коннице Фридриха II не оказывалась огневая поддержка с воздуха – роль сопровождения войск выполняла лишь полевая артиллерия. Кроме того, формально в составе подвижных войск Фридриха II не имелось постоянно находящихся в боевых порядках пехотных подразделений. Причины этого состояли не только в том, что отсутствовали средства передвижения пехоты в XVIII в. (телеги в качестве таковых подходили на стадиях либо преследования уже разбитого противника, либо быстрой переброски к месту сражения, что показала битва при Лесной (1708) российской армии[102]). Важно было и то, что глубина прорыва в XVIII в. была только тактической (лишь несколько километров), а не стратегической. Не меньшее значение имела и временна́я продолжительность сражения: несколько часов, а не дней и тем более недель, как это было в XX в. Соответственно, в случае с вермахтом подвижным войскам остро требовалась поддержка пехоты для разгрома подходивших из глубин резервов противника и закрепления вновь занятых населенных пунктов.

