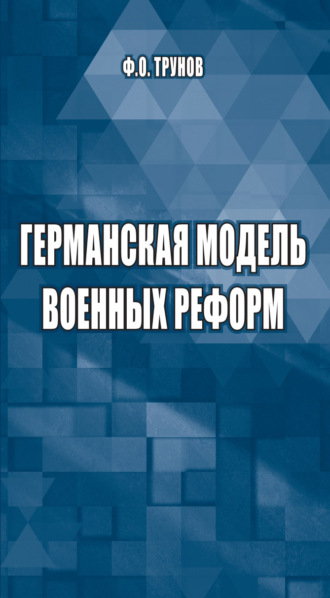
Полная версия
Германская модель военных реформ
Однако новая «холодная война» между Евро-Атлантическим сообществом и РФ (с 2014)[25], а также растущая поддержка США со стороны государств-партнёров в вопросе «сдерживания» КНР (с конца 2010-х годов)[26], обусловливая необходимость участия ФРГ в выстраивании новых разграничительных периметров в военном отношении, создали тем самым серьёзное препятствие не только для наращивания, но даже для сохранения имевшихся объемов использования германских войск вне Европы, т. е. на глобальном уровне. Трудности усугублялись масштабным падением количественных параметров мощи бундесвера за четверть века, прошедшей со времени окончания прошлой «холодной войны»[27], вкупе с незавершенностью и наличием фактических ошибок в проведении реорганизации бундесвера в 1990-е – 2010-е годы, которые дали «отложенный», т. е. незаметный сразу, негативный эффект[28].
Так, если в начале 2010-х годов для борьбы с экзистенциональными угрозами безопасности (а не сугубо гипотетическими как «российская») вне зоны ответственности НАТО ФРГ была способна задействовать не менее 7 тыс. своих военных[29], то в середине 2010-х – порядка 3,5 тыс.[30], а в начале 2020-х годов – менее 2,0 тыс.[31] (притом с учетом возвращения части контингентов, временно выведенных на родину в пиковые периоды пандемии COVID-19). В этой ситуации успешные преобразования «военной машины» становятся для ФРГ сверхактуальной задачей – разумеется, в том случае, если германский истеблишмент эпохи пост-Меркель будет заинтересован в недопущении дальнейшей деградации стратегических позиций на глобальном уровне.
* * *В рамках монографии автор поставил цель – исследовать направленность, содержание и результаты (на момент фактического завершения) военных реформ в прусском, германо-прусском и германском государстве в середине XVIII – начале XXI в., выявив их общие закономерности и на основе этого выстроив обобщенную формализованную модель проведения.
Логика осуществления научных изысканий определяется хронологическим принципом: автор планировал последовательно изучить семь военных реформ в различные исторические эпохи. Здесь следует подчеркнуть, что он в принципе не ставил перед собой задачу дать обзор богатейшей канвы германской (прусской) военной истории (вплоть до современного этапа). Создание научной картины великого множества событий оной, прежде всего сражений, знаменовавшихся как крупными победами, так и катастрофическими поражениями, является едва ли подъёмной, сложнейшей задачей для любого исследователя, тем более в рамках одной книги. В представленной монографии внимание будет сосредоточено лишь на достаточно узких (обычно несколько лет) временных отрезках, когда проводились военные реформы, т. е. глубокие качественные преобразования «военной машины» германского (германо-прусского, прусского) государства, обычно сопровождаемые серьёзными количественными изменениями (как вниз, так и вверх) основных параметров «военной машины», в том числе личного состава. Иными словами, не запланировано в принципе проведение детального изучения использования потенциала войск Германии (Пруссии) в многочисленных военных и вооружённых конфликтах. Хронологически в случае подавляющего большинства из них очередная реформа либо была осуществлена, либо еще не была начата.
Здесь возникает значимый вопрос: как определить, что конкретный промежуток развития вооружённых сил является именно реформой, а не временем рядовых эволюционных изменений «военной машины» государства? Для этого следует обратиться к методологической основе работы – теории строительства вооружённых сил. Согласно ей, «военная машина» рассматривается в качестве постоянно меняющего свой внешний облик и внутреннее строение организма.
Безусловно, рассмотрение «военной машины» государства в статике удобно для самого исследования, позволяя прежде всего четко зафиксировать возможности оборонного / военного потенциала. Так, для специализированной отечественной историографии характерно детальнейшее изучение состояния вооружённых сил страны по состоянию на весну – начало июня 1812 г. (т. е. в преддверии Отечественной войны)[32] и особенно к 22 июня 1941 г., т. е. момент, предшествующий началу Великой Отечественной войны[33]. Соответствующие реперные точки для описания и анализа статичной структуры определялись и уже в ходе Великой Отечественной войны: традиционно ими выступали даты, предшествующие началу крупных контрнаступательных / наступательных операций – 4 декабря 1941 г.[34] (накануне битвы под Москвой), 18 ноября 1942 г.[35] (перед началом операции «Уран» под Сталинградом), 1 или 23 июня 1944 г. (вблизи комплекса крупномасштабных наступательных операций в летнюю кампанию 1944 г.)[36]. Вместе с тем, сколь ни удобно рассмотрение «военной машины» в статике, оно в большинстве случаев совершенно недостаточно для среднесрочной, не говоря уже о долгосрочной, оценки её развития – для этого исследование должно проводиться именно в динамике, что и заложено в концепции строительства вооружённых сил.
Данная теория в полной мере лежит в основе исследований прикладного и теоретического характера советской (в частности, мемуарах выдающихся полководцев Великой Отечественной войны[37]), а в последующем и российской военной науки[38].
Согласно теории строительства вооружённых сил данный процесс беспрерывен. В чем тогда проявляются реформы как его особая часть? Оные означают глубокие преобразования «военной машины» государства – как качественного (особенно), так и количественного характера. Исходя из наработок военных исследователей, прежде всего отечественных[39], уместно представить следующие положения данных изменений. В первом случае (качественные преобразования) речь идёт о кардинальной или как минимум существенной перестройке системы функционирования вооружённых сил (ВС), а именно:
– трансформации целей, задач применения ВС, приоритетов их использования под новый облик государства как института и осуществляемой им внешней политики;
– во многих случаях – пересмотре старой системы комплектования;
– изменении организационно-штатной структуры, что подразумевает:
а) создание новых видов и родов ВС;
б) упразднение или резкое сокращение потенциала (с возможностью передачи его в урезанном виде в другие) устаревших видов и родов ВС;
в) существенное усиление / ослабление имеющихся видов и родов ВС, соответствующее изменение численности личного состава, количества единиц парка вооружений и военной и техники (ВиВТ), обновление парка последних вкупе с реорганизацией их внутренней структуры: изменениями штата объединений (в случае наличия таковых в мирное время), соединений, частей и подразделений, а также числа всех данных типов войсковых единиц.
Притом в начале проведения военной реформы эти качественные изменения могут часто сочетаться с предварительными количественными сокращениями ВС. Это может быть обусловлено широким комплексом причин: прежде всего, увольнением (демобилизацией для периода с конца XIX века) части военнослужащих с целью их возвращения в гражданскую хозяйственную сферу и её подъема; необходимостью высвобождения денежных средств (особенно в условиях невозможности увеличить военный бюджет) для проведения самой реформы. Притом исключительно важной детерминантой выступает ещё одна, обычно не афишируемая: сократить старую военную организацию до предельно допустимых размеров с тем, чтобы её оказалось легче ломать и строить на ее месте новую. Как показывала практика, чем значительнее была предстоявшая реорганизация «военной машины», тем более масштабными (в абсолютном и особенно удельном отношениях, т. е. от числа первоначально имевшихся военных ресурсов) были осуществляемые сокращения. В тех случаях, когда военная реформа проводилась после крупных неудач в войне решение задачи по осуществлению редукций облегчалось: в этом случае завершившиеся боевые действия сами уже существенно ослабляли «военную машину» (и готовность её прежнего руководства сопротивляться преобразованиям). Причём, если внешними акторами в отношении поверженной (проигравшей) стороны вводились ещё строгие ограничения количественных значений её военной мощи, то часто они не превращались в преграду для проведения военной реформы – однако, лишь в самом начале этого процесса.
Перестраивая организацию ВС в уменьшенном (или как максимум имеющемся количественном) виде, в последующем, в том числе на завершающем этапе преобразований, государство стремилось к наращиванию параметров реорганизованной мощи. И в этом случае лимиты, особенно жёсткие, практически всегда становились препятствиями для развития ВС, требуя своей отмены.
Обращаясь к теоретическим аспектам военных реформ, нельзя не осветить ряд вопросов: насколько продолжительной должна быть военная реформа? И может ли она проводиться непосредственно в период войны?
Прежде всего, следует вновь подчеркнуть, что реформа – это перестройка, глубокая реорганизация системы, а значит, в период преобразований последняя становится хрупкой, наиболее подверженной поражению в случае ударов извне. Это особенно опасно для ВС, обеспечивающих иммунитет государства как института в военно-политической сфере. Очевидно, что начало полномасштабных боевых действий окажется очень болезненным (вплоть до катастрофического) для любой «военной машины», проходящей стадию реформирования. Наиболее иллюстративный пример тому: масштаб неудач РККА летом – осенью 1941 г. в ходе наступления вермахта, вызванный во многом тем, что Красная Армия находилась на 22 июня 1941 г. в состоянии ускоренной масштабнейшей реорганизации[40]. Разумеется, история не имеет сослагательного наклонения, однако автор данной монографии полностью разделяет мнение о том, что удары вермахта, случись они летом 1940 г. (когда преобразования только стартовали, ещё не став полномасштабными) и особенно весной – летом 1942 г. (когда они в основном должны были завершиться), имели бы совершенно иную, существенно менее разрушительную силу.
Соответственно, успешное в принципе проведение реформы должно обеспечиваться двумя важнейшими условиями: относительно небольшой хронологической протяжённостью и наличием спокойной внешнеполитической обстановки, т. е. отсутствием угрозы широкомасштабной войны. Первое условие означает, что продолжительность преобразований не должна превышать нескольких лет: минимум это 2–3 года (за меньшее время переформатировать «военную машину» государства с учётом ее инертности едва ли представляется возможным), максимум – 5–7 лет. Превышение данного временного срока, как и в случае любой другой, т. е. невоенной, сферы (в частности, промышленной, здравоохранения, образования, государственного управления), будет объективно свидетельствовать о «пробуксовывании» и (или) отсутствии адаптивности к реалиям проводимых преобразований, т. е. их фактической неудаче. Превращаясь в перманентное явление, реформа либо ведёт к резкому ослаблению системы (в данном случае – военной организации), либо перерождается в некую «повседневность», переставая представлять собой действительно глубокие и значимые преображения.
Можно ли сократить продолжительность военной реформы? Да, если грамотно провести предварительный этап или фазу подготовки – время максимально чёткого планирования (притом и на концептуальном уровне, однозначно отвечая на вопрос: к отражению каких угроз и вызовов должны готовиться вооружённые силы будущего), а, возможно, и осуществления точечных преобразований, т. е. «реформирования в миниатюре». Решение этой задачи облегчается, если государство, готовящее глубокие изменения, может в той или иной степени (разумеется, с учетом национальной специфики) использовать достигнутые результаты в области строительства вооружённых сил других игроков – в частности, понимать, каковы наиболее общие требования к войскам во вновь наступающей эпохе развития миропорядка. Вместе с тем, иногда данное положение характерно для частично ведомых государств (со стороны других, более влиятельных акторов). Это не только облегчает, но одновременно и затрудняет развитие собственного военного потенциала, который может не оказаться способен самостоятельно отвечать базовым требованиям завтрашнего дня. Притом стремление к предельному сокращению хронологической протяжённости преобразований ВС (желанию провести по «ускоренному варианту») может дать отрицательный результат: реформа может оказаться незавершенной полностью или частично, таким образом создав определённый разрыв между «новыми» и «старыми» элементами военной организации с риском её деградации. Примером тому служит незавершённость военных преобразований в правление Фёдора Алексеевича (1676–1682), за чем последовало резкое падение боеспособности армии в регентство Софьи Алексеевны (1682–1689). Это значит, что скорость не может быть принесена в жертву эффективности.
Отмеченным выше другим условием успешного проведения реформы должна стать относительно спокойная внешнеполитическая обстановка как минимум на протяжении большей части (особенно пиковых фаз оных) преобразований. А если таковые остро потребуются в ходе крупномасштабного конфликта? Одна ситуация возникает, если в ходе него беспрерывно, а точнее, без сколько-нибудь длительных пауз ведутся активные боевые действия на широком пространстве, причем наличествует непосредственная угроза для территорий самой страны. В этом случае у государства два основных варианта: попытаться «дотянуть» до заключения мира / перемирия с имеющейся военной организацией (в этом случае степень жёсткости условий будет во многом обусловлена уровнем её устаревания и ослабления) либо, напрягая все силы, всё же перестроить её, но неизбежно ценой исключительных усилий. Вариант выбирается в зависимости от конкретной обстановки, а главное – критичности данного военного конфликта для сохранения государства в принципе. Так, в случае Первой мировой войны пришедшие к власти большевики, остро нуждаясь в передышке для создания с почти нулевой отметки своих вооружённых сил, пошли на заключение тяжелейшего Брестского мира (3 марта 1918 г.) с Германией и в целом Четверным союзом. В данном случае СНК оказался перед сложнейшим выбором: либо потерять значительные, весьма развитые, территории на западе страны, либо, по сути, лишиться всего – по достижении понимания этого руководством РКП (б) в целом (а не только В. И. Лениным) и был выбран первый вариант как единственно возможный[41]. При этом была очевидна неготовность – не в силу нежелания, но вследствие отсутствия достаточных ресурсов в условиях продолжения борьбы Германией на Западном фронте[42] – Второго рейха и его союзников (точнее, практически уже сателлитов) к оккупации всей территории бывшей Российской империи и слому устанавливаемой Советской власти. Совершенно иная картина наблюдалась в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: нацистский Третий рейх желал поработать народы Советского Союза, уничтожить в принципе его государственность, т. е. речь шла о выживании Отечества в принципе. В этой связи руководство СССР во главе с И. В. Сталиным сумело провести глубокие преобразования, в том числе в экстренных условиях осуществить те планы реформы, которые были задуманы ещё перед Войной и доказали правильность на практике – они были осуществлены в окончательном виде в ходе «коренного перелома»[43]. Однако завершение преобразований (с частичным изменением их траектории) оказалось исключительно тяжёлым испытанием для страны в ходе первого периода Войны.
Качественно иная ситуация возникает, когда наблюдаются длительные промежутки без ведения активных боевых действий – прежде всего, на территории самого государства, осуществляющего военную реформу. В этом случае появляется возможность успешно её провести. Характерный пример – первый этап Северной войны, т. е. временной отрезок 1700–1708 гг. между «Нарвской конфузией» и вторжением основных сил шведской армии во главе с Карлом XII в Россию. К началу Северной войны Петр Первый уже утвердился в понимании необходимости создания регулярной армии (а не полков «нового строя», имевших многие элементы непостоянных войск), однако окончательный путь её создания ещё не был определён: силы под Нарвой включали и старые стрелецкие полки, и частично переформированные войска «иноземного строя». После поражения под Нарвой основные силы «военной машины» Карла XII более чем на пять лет «увязли» в Речи Посполитой, тем самым не представляя непосредственной угрозы для России. Это время было использовано Петром I для проведения основного этапа военной реформы: была создана структура регулярной армии (фузилёрные и гренадёрские полки в полевых пехотных войсках, драгунские – в кавалерии, учреждены отдельные артиллерийские части), определена новая система её комплектования (посредством рекрутских наборов)[44]. Притом Петр I сумел задействовать две группировки войск (постепенно обновляемые в рамках реформы) для занятия побережья Финского залива и оказания содействия Речи Посполитой – с тем, чтобы она как можно дольше притягивала к себе максимум внимания Карла XII. Все преобразования удалось в основном завершить к кампании 1708 г.[45], т. е. моменту появления уже реальной угрозы территории России, что в итоге резко изменило соотношение сил в её пользу. Иллюстративно также, что завершение наиболее масштабных организационно-штатных преобразований в РККА (в частности, формирование однотипных танковых армий, создание подразделений с автоматическим оружием во всех стрелковых частях, усиление артиллерии[46]) пришлось на апрель – июнь 1943 г. Это было относительно спокойное время на советско-германском фронте, предшествовавшее грандиозной битве на Курской дуге, к началу которой Красная Армия приобрела уже окончательно преобразованный облик.
В данном отношении проведение военных реформ, начиная с возникновения биполярного миропорядка, существенно облегчилось, так как угроза начала широкомасштабного военного конфликта реально снизилась. Фактор ракетно-ядерного сдерживания, а также обусловленные им вырабатываемые неофициальные правила стратегического поведения и взаимной этики – прежде всего, на уровне сверхдержав с последующим принятием их широким кругом государств «первого» и «второго» миров – содействовали достижению стратегической стабильности. Безусловно, после крушения биполярной схемы миропорядок стал иным: так, возросла степень хаотизации международных процессов и взаимоотношений между акторами. Однако вероятность крупномасштабного военного конфликта продолжает оставаться всё же достаточно низкой и скорее гипотетической. Речь здесь ни в коем разе не идёт о том, что ВС в принципе не должны рассматривать такой сценарий, но совершенно о другом: внешнеполитическая обстановка для проведения реформы «военной машины» всё же остается достаточно благоприятной. Локальные вооружённые конфликты, при всей их опасности (прежде всего, проецировании угроз нестабильности их зон осуществления организованного насилия, особенно с участием террористических группировок), всё же не могут пока создать столь опасное состояние для безопасности и обороны стабильного государства, которое стало бы запретительным препятствием на пути любых коренных перестроек ВС страны.
Однако данный благоприятствующий фон отнюдь не снижает остроту принципиальных вопросов, неизбежно возникающих в ходе реформы:
– способность чётко сформулировать требования к перспективному облику вооружённых сил, в том числе с точки зрения их выполнимости в вопросе обеспечения с учётом состояния ресурсной базы внешней политики страны, на долгосрочную перспективу;
– недопущение того, чтобы реформа превратилась в перманентный процесс;
– соответствие планов преобразований реализации долгосрочных приоритетов внешней политики в целом, а также идеологическим (ценностно-информационным) установкам;
– для реализации изложенных выше пунктов – наличие группы профессиональных политиков и администраторов-технократов (способных работать вместе), чётко представляющих модель вооружённых сил будущего (разумеется, с использованием экспертных наработок) и обладающих волей, способностью провести необходимые решения на всех уровнях, особенно через парламент.
Здесь, особенно во второй половине XX в., для возрастающего числа государств мира (прежде всего, «западных демократий») возникает комплекс проблем, связанных с продолжительностью одного президентства или срока пребывания на посту премьер-министра (в зависимости от особенностей политической системы) – на эту проблему применительно к внешней политике США в целом обращал внимание ещё Г. Киссинджер[47]. Так, в большинстве стран – участниц НАТО и ЕС данный срок составляет 4 года. За вычетом времени на практическое вхождение в круг должностных полномочий данный промежуток сокращается до 3,5 лет, а если ещё прибавить время на подготовку к новому электоральному циклу и особенно возможность пребывания в статусе «хромой утки» (в случае проигрыша выборов в первый же срок), то он уменьшится до 2,5–3 лет. Притом почти наверняка вновь избранный президент / премьер-министр прежде всего обратит внимание на другие сюжеты – социальные, экономические, в целом внешнеполитические, далеко не сразу будучи готов приступить к обсуждению преобразований «военной машины». Если учитывать время подготовительных мер, то реформа едва ли может быть осуществлена в рамках одного электорального цикла – на её проведение в отдельно взятом таковом может остаться лишь 1–2 года. Следовательно, для осуществления преобразований «военной машины» требуется достаточно длительное (два срока и более) пребывание у власти конкретного высшего административного лица и его команды либо наличие широкого консенсуса в вопросе реорганизации ВС между действующим политиком и его преемником. Более того, всё чаще нормой политической жизни стран – участниц Евро-Атлантического сообщества является коалиционный характер правительств, т. е. их образование и функционирование при участии двух и более политических партий. Достижение согласия между ними по такому чувствительному вопросу, как военная реформа, является весьма непростым делом, требующим значительного времени – опять же, с учётом того обстоятельства, что после очередного электорального цикла партийный состав кабинета изменится или как минимум иным станет соотношение влияния и властных полномочий между политическими силами, его образующими. Притом управленцам, работающим в системе исполнительной власти, следует учитывать вероятное негативное отношение той или иной части депутатского корпуса к росту расходов на ВС, их численности, а также изменение целеполаганий их использования. Не менее важно иное – жёсткая критика, если еще реформируемые или, того хуже, уже завершившие процесс преобразования вооружённые силы окажутся неспособны эффективно противодействовать какой-либо значимой угрозе безопасности (прежде всего, из числа неклассических).
Есть ли выход из представленного комплекса внутриполитических препятствий, и если да, то какой он? Таковой имеется, представляя собой наличие широкого межпартийного и межинституционального (т. е. основанного на единстве подходов представителей не только исполнительной, но также законодательной, а по возможности и судебной власти) консенсуса как минимум по принципиальным вопросам проведения реформы «военной машины».
В ФРГ ведущую роль в проведении военной реформы 1956–1962 гг. и современной (с конца 2010-х годов) играл блок ХДС / ХСС, причем примечателен заметный вклад не только христианских демократов, но и ХСС (в частности, Ф.-Й. Штрауса на посту министра обороны в 1956–1963 гг.) в осуществление преобразований. Руководству христианских демократов – командам канцлеров К. Аденауэра и А. Меркель соответственно – удавалось обеспечить согласие со своим курсом свободных демократов (в обоих случаях), а также СДПГ (прежде всего, во втором). Проводимые в 1990-е – начале 2010-х годов преобразования, пик (основная фаза) которых пришелся на начало – середину 2000-х годов, явились плодом совместных усилий христианских и социал-демократов. Притом именно вторые при канцлере Г. Шрёдере внесли решающий вклад в определение направленности реформы – здесь ставшая (2005) канцлером представитель ХДС А. Меркель была скорее «дореализатором» идей предшественника, а получивший широкую известность К.-Т. цу Гуттенберг (2009–2011, ХСС) на деле внес существенно меньший принципиальный вклад в развитие бундесвера, чем представитель СДПГ П. Штрук (2002–2005).
Что подразумевается под широким консенсусом элиты? Речь конкретно идет о наличии чёткого представления о том, что такая реформа необходима для реализации эффективного внешнеполитического курса страны. Каковы побудительные мотивы, формирующие данный консенсус? С точки зрения автора монографии, их можно условно разделить на три основные группы. Первая – это настоящие (сегодняшние) потребности, вызванные усложнением ситуации в сфере безопасности и обороны для государства, неспособностью устаревшей военной организации справляться с вновь возникающим кругом проблем. Вторая группа – это способность военных технократов среднего и высшего уровня представить обоснованный оптимальный вариант преобразований ВС, его соответствие ресурсным возможностям страны. Так, в условиях отказа многих стран – участниц НАТО от смешанной (прежде всего, основанной на призыве)[48] системы комплектования вооружённых сил и их переводу исключительно на контрактную основу сверхострой стала проблема набора достаточных по численности контингентов и мотивация службы. Не менее сложный вопрос – выделение необходимых денежных ассигнований, притом, как минимум, на среднесрочную перспективу (для обеспечения стабильности финансирования). Наконец, третья группа мотивов – понимание объективной необходимости реформы ВС для обеспечения должного уровня военной мощи с учетом роли, которую страна пытается играть на мировой арене – в данном случае речь прежде всего идет о круге держав, в том числе «восходящих». Третья группа причин носит наиболее фундаментальный и долгосрочный характер, однако в имиджевом плане она обычно «затушевывается» из-за невыгодного имиджевого восприятия – прежде всего, как вне страны (обвинение в «бряцании оружием» и милитаризации внешней политики), так часто и внутри, что особенно актуально для Германии с учетом её исторического наследия. Поэтому часто данная группа факторов «маскируется» посредством педалирования первой их группы. В этой связи показателен пример новой «холодной войны», инициированной весной 2014 г. Евро-Атлантическим сообществом в отношениях с РФ и приобретшей среди прочих полноценное военно-политическое измерение. Интересно следующее совпадение: конфронтация, стимулируя рост военных потенциалов (под предлогом сдерживания якобы существующей «российской угрозы», а в последующем и вызовов со стороны КНР), наступила в период, когда «военные машины» многих стран Запада в своем развитии путем длительных редукций дошли до «дна» своих возможностей, «пробивание» которого оказалось чревато деградацией внешнеполитических позиций в целом. Уже отмечалось выше, что ФРГ в полной мере столкнулась с данной проблемой к середине 2010-х годов. Причём как минимум на кратко- и среднесрочную перспективу, с учетом сложности перестройки работы всей громоздкой «военной машины», участие в противостоянии становится также и сдерживающим, а не только благоприятствующим фактором для развития её потенциала. В долгосрочной открывается возможность для его наращивания (прежде всего, в смысле войск общего назначения), однако и ограничители продолжают оставаться существенными.

