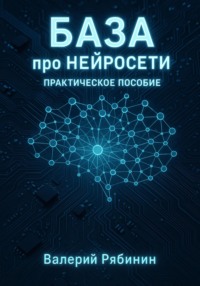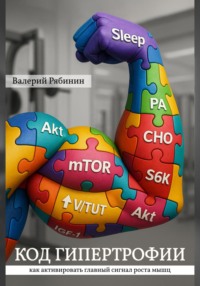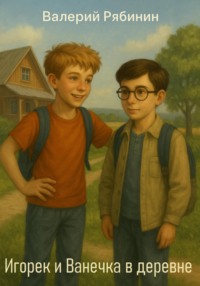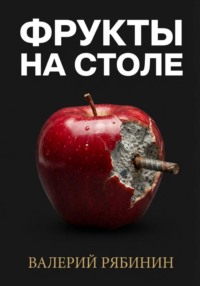Полная версия
Последний выбор князя Василько
С того дня они стали неразлучны. А Василько впервые в жизни понял: поражение – это не конец. Это начало.
Солнце поднялось высоко. С колокольни ударили к обедне. Василько с Митькой и другими ребятами уже с утра носились по лугу за теремом, ловили кузнечиков, затевали кулачные схватки и, переговариваясь звонкими голосами, устраивали гонки до речки и обратно.
– Смотри, княжич, как я быстро до вербы добегу! – задирался Митька, смеясь и размахивая рубахой.
– А я кузнечика поймал, гляди какой! – кричал в ответ Василько, поднимая вверх зелёного прыткого пленника, который отчаянно дрыгался в пальцах.
От жары лица у мальчишек раскраснелись, волосы растрепались, а рубашки насквозь промокли. Но никто не думал о времени, пока снова не раздался мерный звон большого колокола.
– Бегу! – спохватился Василько. – Мама велела к службе не опаздывать!
Помчался к церкви. Но у дверей остановился – там, в тени старой липы, стоял Лихой Игнат. Юродивый что-то бормотал, покачиваясь.
– …пыль с востока идет… тьма солнце покроет… кони реки выпивают…
Василько поежился. Хотел пройти мимо, но Игнат вдруг повернулся, впился в него безумными глазами:
– Ты! Белый княжич! Помнишь – я при твоем рождении кричал?
– Не помню, – пробормотал мальчик. – Я маленький был.
– Маленький… – Игнат хихикнул. – Все мы маленькие перед тем, что грядет. Слушай, княжич: научись ветер слушать. В нем – вести. В нем – предупреждения. Когда придет черный день, ветер тебе дорогу укажет.
Протянул грязную руку, словно хотел погладить по голове. Василько отшатнулся, бросился в церковь.
Служба шла своим чередом. Дьякон читал нараспев, свечи мерцали, дымил ладан. Княгиня Елена стояла впереди, рядом с ней – жены бояр. Василько пристроился сзади, стараясь отдышаться.
Но слова юродивого не шли из головы. "Научись ветер слушать…" Что за глупость? Ветер – он и есть ветер. Дует и дует.
После службы был обед в гриднице. Князь Константин восседал во главе стола, по правую руку – старшие бояре, по левую – младшие. Княгиня с боярынями – за отдельным столом, по обычаю.
Василько сидел рядом с отцом на маленькой скамеечке. Ему полагалась особая честь – отведать первым от княжеских блюд. Это означало, что князь признает его наследником, будущим хозяином стола ростовского.
– Ну что, сын, – спросил Константин, отламывая краюху хлеба. – Чему научился?
– Букву "Ижицу" писать. И бороться правильно. Ратибор учит нас с Митькой.
– Ратибор – добрый воин, – одобрил князь. – Слушай его. А букву покажешь после.
Разговор за столом шел о делах княжества. Урожай обещал быть добрым, торговля шла бойко. После обеда княжич побежал к матери. Княгиня Елена сидела в светлице, вышивала. Но руки дрожали, золотая нить то и дело выскальзывала из пальцев.
– Мама, ты чего грустная?
– Устала, сынок. – Улыбка вышла бледной. – Иди поиграй.
Но Василько не уходил. Подошел ближе, обнял мать за шею. Опять этот горький запах трав…
– Мамочка, ты болеешь?
Княгиня вздрогнула, прижала сына к себе:
– Нет, сынок. Просто устала. Иди, милый. Поиграй с Митькой.
Но княжич видел – мать тает как свеча.
Однажды княгиня позвала сына, достала из ларца маленький серебряный крестик на цепочке.
– Это тебе, Василёк. Носи всегда. Но знай, сначала поступь твоя, потом промысел Божий: без первой второму негде стать. Трудно будет – вспомни эти слова.
– Мама, зачем ты так говоришь? Будто прощаешься…
– Не прощаюсь, милый. Просто… хочу, чтобы ты запомнил. На всякий случай.
Надела крестик на шею сыну, поцеловала в лоб. Василько прижался к матери, чувствуя, как колотится ее слабое сердце.
В последний день мать попросила принести васильков – нарвать в поле за городом. Княжич с Митькой побежали, набрали полный короб синих цветов.
Княгиня улыбнулась, взяла один цветок дрожащей рукой:
– Василек мой. Молись за меня, сынок.
Закрыла глаза. Цветок выпал из пальцев.
На похоронах Василько не плакал. Стоял прямо, держал свечу, смотрел, как гроб опускают в землю. Только когда все ушли, упал на могильный холм, зарылся лицом в свежую землю.
– Мамочка…
Сильные руки подняли его. Ратибор. Постоял рядом, пока мальчик не успокоился.
– Первая большая потеря, княжич. Не последняя, увы. Но ты держался молодцом.
На могиле посадили куст шиповника.
В большой праздник – Покров Богородицы – князь Константин устроил пир. Съехались бояре, купцы именитые, духовенство. Столы ломились от яств.
Василько сидел рядом с отцом на высоком помосте. Ему нравилось смотреть сверху на пеструю толпу, слушать разговоры.
– А покажи, князь, меч родовой, – попросил кто-то из гостей. – Говорят, еще Мономах им владел.
Константин кивнул слуге. Принесли булатный меч франкской ковки в драгоценных ножнах. Князь извлек клинок – сверкнуло латинскими буквами клеймо.
– Вот он, красавец. Отец мой получил от деда, Юрия Долгорукого, а тот от своего отца, Мономаха Великого. Двести лет мечу, а как новый.
– Дай потрогать, батюшка! – попросил Василько.
– Держи. Аккуратно – острый.
Княжич взял меч обеими руками. Тяжелый! Едва удержал, чуть не выронил на пол.
– Осторожней, княжич, – поспешил Гюрята. – Оружие не игрушка.
– Тяжелый очень, – пожаловался Василько, с трудом передавая меч обратно.
– А как же иначе, – усмехнулся Константин. – Но жизнь заставит, легким покажется.
Гюрята молча кивнул, переглянувшись с князем. Константин понял взгляд боярина без слов.
– Придется, – согласился он. – Куда денется…
Вечером, когда гости разъехались, отец позвал Василька в оружейную палату.
– Меч этот твоим станет, – сказал он. – Но знай, сын, это не просто железо. Это не символ правды и не для защиты слабых. Слабых не защищают, ими правят. Этот меч – право решать, что есть правда. Кто его держит, тот и пишет закон. Понял?
– Понял, батюшка.
– То-то. А пока расти.
Февральский день выдался морозный. Князь Константин велел седлать коней.
– Поедем, сын, посмотрим, на чем княжество стоит.
Княжич ахнул от восторга. Его ждал настоящий конь.
– Сам поедешь?
– Сам!
Подсадили, и вот уже они едут по заснеженным улицам Ростова. Василько сидит прямо, изо всех сил стараясь держаться как взрослый всадник. Конь идет спокойно, фыркает, пар струится из ноздрей.
Снег под копытами утоптан до твердости камня. В окнах домов мерцает свет – где сальные свечи, где лучины. От печных труб поднимается дым, пахнет углем, хлебом, копотью. Люди, завидев княжескую процессию, выходят из домов, кланяются. Дети выбегают на улицу – поглядеть на маленького княжича верхом.
– Здравствуй, княжич! – кричит кто-то. – Расти большой!
Василько важно кивает.
– Будущее твое не в палатах, а вот тут, – негромко говорил отец. – Смотри и запоминай.
Первыми остановились у кузнечной слободы. Еще издалека слышен гул – десятки молотов бьют по наковальням в разном ритме, создавая металлическую музыку. Искры фонтанами вылетают из дверей, освещая сугробы.
Они спешились у большой кузницы, от которой валил жар. В открытых дверях – пекло. Горны пылают, меха накачивают воздух с ритмичным свистом. Молодой кузнец в закопченном кожаном фартуке увидел гостей, отложил молот.
– Покажи сыну, как дело делается, – велел Константин кузнецу.
– Гляди, княжич, – говорил мастер, – вот это горн. В нем железо покоряется.
– А ты сам научился? – спросил Василько.
– С детства. Тебе, князь, тоже знать надо. Князь без войска – не князь. Войско без мечей – толпа. А мечи куем мы.
– Дядька, а что сейчас куешь? – спросил Василько, не сводя глаз с волшебного действа.
– Подковы, княжич. Вот и для твоего коня есть, – улыбнулся мастер, показывая готовые подковы. – А хочешь посмотреть, как гвоздь делают?
– Хочу!
Кузнец взял щипцами раскаленный прут из горна, положил на наковальню. Молот упал один раз – прут сплющился. Второй раз – появилось острие. Третий – готов гвоздь, только красный от жара.
– Ловко! – восхитился княжич. – А я смогу?
– Вырастешь – научим, – засмеялся кузнец. – У нас в роду все кузнецы. Дед мой еще твоему деду латы ковал. А сын мой, – кивнул на подмастерья, – уже молоток держать учится.
Когда они отъехали, Константин сказал:
– Верно все говорит. Да только этот кузнец верен мне, пока казна платит серебром за его работу. Перестану платить – его молот будет ковать подковы для коней моего брата. Люди служат не идее, сын. Они служат силе и выгоде.
Следующая остановка – ювелирная слобода. После грохота и жара кузни – благословенная тишина. Здесь не стучали молоты – только тихое постукивание маленьких молоточков да шипят дуйки, паяльные трубки.
В мастерской старого ювелира было чисто и светло. Восковые свечи в медных подсвечниках освещали рабочие столы. Пахло воском, смолой, оловом. Мастера в теплых кафтанах и с повязками на голове склонились над тонкой работой.
– Это финифть, княжич, – объяснял седобородый ювелир, показывая миниатюрную пластинку. – Эмаль по серебру. Вот глядите – для церкви образок делаю.
На серебряной основе размером с детскую ладошку – лик святого Георгия. Змей извивается под копытами коня, копье блестит золотом. Краски яркие, словно живые – синие, красные, зеленые.
– Как же так тонко? – удивился Василько, осторожно наклоняясь над работой.
– Терпение нужно. И глаз верный. И рука твердая, – ответил мастер, придвигая свечу поближе к работе. – Сначала серебро травлю – узор выедаю. Потом краски втираю – порошок такой, цветной. Потом в печь – чтоб закрепилось. Малейшая дрожь руки – испорчена работа.
– А не боитесь ошибиться? – спросил мальчик.
– Боюсь. Потому и не спешу. Здесь не сила нужна – душа и терпение. Всему учиться надо, княжич. Всему свое умение.
Старик показал другие работы – серебряные оклады для икон, золотые цепи, перстни с каменьями. Каждая вещь – произведение искусства, созданное простыми инструментами – резцами, молоточками, щипцами.
– Вот этот перстень, – сказал он, поднимая золотое кольцо с синим камнем, – три месяца делал. Для владыки нашего. Камень из Царьграда привезли, оправу я выделывал.
Позже Константин, взяв в руки серебряный оклад, сказал сыну:
– Красота. Но эта красота оплачена трудом и потом сотни деревень. Князь должен уметь этот пот собрать и обратить в то, что ослепит послов и купит верность бояр.
Последней была гончарная слобода. Здесь пахло глиной и дымом от обжиговых печей. Мастер крутил гончарный круг ногами, а руками лепил из серой глины кувшин.
– Смотри, княжич, – сказал он, не отрываясь от работы. – Была просто грязь, а станет – посуда.
Под умелыми пальцами глина словно сама принимала нужную форму. Сначала ком, потом донышко, потом стенки поднимаются, горлышко формируется.
– А если ошибешься? – спросил Василько.
– Размять и заново, – засмеялся гончар. – Глина прощает ошибки. Не то что железо – его не исправишь.
Показал обожженные горшки – красные, гладкие, звонкие. Тюкнул пальцем – зазвенело, как колокольчик.
– А это для кого?
– Для всех. Богатый купит расписной, бедный – простой. Но и тому и другому – есть надо.
Домой возвращались в сумерках.
– Умей все видеть, сыне, – сказал князь. – Эти люди – глина. В руках хорошего гончара она станет кувшином. В руках дурака – останется грязью. Береги их как свой главный инструмент. Но не забывай, что любой инструмент может тебя и поранить.
В Ростов приходили плохие вести. Юрий окончательно утвердился во Владимире, на письма старшего брата не отвечал. Бояре точили мечи, дружина готовилась к походу.
Ночью Василько не мог уснуть. Вставал, подходил к окну, смотрел на звезды. Где-то там, во Владимире, дядя Юрий тоже, наверное, не спит. Готовится к войне.
«Брат на брата пойдет – род ослабнет», – вспомнились чьи-то слова.
Но что может сделать семилетний мальчик? Только смотреть и учиться.
В дверь тихо постучали. Вошел отец, присел на край постели:
– Не спишь, сынок?
– Не спится, батюшка.
– Знаю. Тяжелые времена настают. – Помолчал. – Запомни, Василько: если вспыхнет война – ищи тех у кого ладони в шрамах, а не в перстнях. Их слово дороже золота. На них Русь и держится.
– Запомню, батюшка.
– То-то. А теперь спи. Завтра в дорогу.
Телега тряслась на каждой кочке, скрипели колеса, пыль столбом поднималась из-под копыт. Василько сжимал в руках деревянный меч – из липы, с вырезанным узором, который сам князь Константин заказал мастеру. Княжич был одет в праздничную рубаху с поясом, волосы причесаны, но от волнения все равно растрепались.
– Скоро ли, дядька Фрол? – спросил он в сотый раз.
Старый гридь, ехавший рядом верхом, засмеялся:
– Гляди, княжич, ныне не с бабами чай хлебать – ныне в рать глядеть поедешь! Потерпи малость.
Дорога вела через перелески и выжженные солнцем луга. Жаркое июльское солнце палило немилосердно, кузнечики трещали в траве, пахло сеном и пылью. Василько то и дело подпрыгивал на войлочных подстилках, норовя высунуться из телеги, чтобы лучше видеть.
– Сиди смирно, – ворчал слуга. – Упадешь еще.
Но княжич не мог сидеть смирно. Сегодня отец обещал показать ему настоящий военный лагерь, настоящих воинов. «Будешь как отец», – повторял про себя мальчик, и ноги подрагивали от предвкушения.
Вдруг из-за холма показался дым. Потом – яркие пятна шатров. Потом послышались голоса, ржание коней, звон металла.
Лагерь раскинулся на берегу реки как пестрый город. Шатры из парусины белели на зеленом лугу, меж ними развевались хоругви с изображениями святых и княжеских гербов. Дым от костров поднимался к небу, пахло печеным мясом и дегтем. Разноголосица дружинников сливалась в единый гул – смеялись, ругались, пели.
Василько вылез из телеги и замер в изумлении. Воины казались великанами. Щиты с гербами прислонены к кольям, шеломы блестят на солнце как «кастрюли» – так подумал княжич, разглядывая остроконечные шлемы. Один дружинник в кольчуге-сороконожке, заметив мальчика, низко поклонился:
– Здравствуй, княжич! Добро пожаловать в ратный наш стан!
У реки поили коней – рыжих, вороных, пегих. На кольях сушилось снаряжение. Громогласный смех воинов то и дело прерывался звоном – то ли мечи точат, то ли что куют.
– Дядька, а почему у всех такие страшные рожи? – шепнул Василько слуге.
– Не страшные, а суровые, – поправил тот. – Воин должен врага пугать одним видом.
Мальчик кивнул, стараясь запомнить. Воин должен быть страшным… то есть суровым.
– Сын мой! – раздался знакомый голос.
Князь Константин шел навстречу в простом воинском кафтане, подпоясанном широким ремнем с медными бляхами. На поясе висел меч в кожаных ножнах. Лицо загорелое, в бороде седина.
– Батюшка! – Василько бросился к отцу.
Константин подхватил сына, поднял на руки, потом поставил и положил тяжелую ладонь на плечо.
– Ну что, Василек, нравится наш стан?
– Очень! А можно я тоже буду воевать?
Князь засмеялся, но тут же стал серьезным. Повернул сына лицом к лагерю, указал рукой на дружинников:
– Вот, сыне. Видишь? Не злато и сребро – вот сила князя. Люди, верные люди.
Василько проследил взглядом за отцовской рукой. Воины занимались своими делами – кто оружие чистил, кто кольчугу чинил, кто просто отдыхал в тени.
– С ними – полон стол, – продолжал Константин негромко, но так, чтобы сын запомнил каждое слово. – Без них – и трон дубовый, как пень в лесу. Понимаешь?
Мальчик кивнул, хотя не до конца понимал. Но слова отца врезались в память крепко.
– А ну-ка, воин малый, меч возьмешь ли? – раздался веселый голос.
К ним подошел огромный дружинник с прозвищем Медведь – широкий в плечах, с лохматой бородой. В руках он держал настоящий боевой меч – длинный, тяжелый, с потертой кожаной рукоятью.
– Хочу! – не раздумывая ответил Василько.
– На, попробуй!
Медведь протянул оружие. Княжич схватился за рукоять обеими руками, попытался поднять – и тут же меч выскользнул, упал в траву с глухим стуком.
Дружинники, наблюдавшие за сценой, дружно захохотали. Но смех был добрый, без издевки.
– Ничего, ничего! – крикнул кто-то. – Пущай ныне тяжек – вырастешь, он сам тебя за пояс заскочит!
Другой воин подошел, помог поднять меч, потом достал из-за пояса обломок стрелы с выгравированным на древке символом – кружок с крестом внутри.
– Это тебе, княжич, на память. Моя первая стрела на войне – сам черниговского богатыря подстрелил!
– Правда? – глаза у Василька загорелись.
– Истинная правда! Хранить будешь?
– Буду! – торжественно пообещал мальчик, пряча подарок за пазуху.
Василько оглядел лагерь и заметил невдалеке низкую колоду – видно, дрова рубили. Идея пришла сразу. Он подбежал к колоде, вскарабкался на нее, встал во весь рост и поднял свой деревянный меч.
– Смотрите все! Я – князь Василько! – громко объявил он.
Дружинники обернулись, заулыбались. Мальчик попытался вспомнить, как машут мечами взрослые воины, и размашисто рубанул воздух. Почти упал, но удержался.
– Берегись, враг! – крикнул он и снова замахнулся.
Медведь, подыгрывая, схватился за бок и повалился на траву:
– Ай-ай, сражен в самое сердце! Пощады прошу, храбрый княжич!
– Пощады не будет! – Василько вошел в роль. – Ты плохой, а я хороший!
– Ой, помираю, помираю! – стонал Медведь, дрыгая ногами.
Остальные воины захлопали, засвистели. Кто-то крикнул:
– Вот это воин! Одним ударом великана свалил!
Константин наблюдал со стороны, и в глазах его светилась гордость пополам с грустью. Маленький еще, играет в войну… А вырастет – настоящую войну придется вести.
Солнце клонилось к западу, небо начинало розоветь. С дальнего шатра раздался звон бубенца – сигнал вечернего сбора. Дружинники стали расходиться по своим местам.
Василько спрыгнул с колоды, подбежал к отцу. Лицо раскрасневшееся, глаза блестят от восторга.
– Батюшка, а я, когда вырасту, стану в рати первым! – объявил он торжественно.
Константин присел на корточки, взял сына за плечи. Лицо его стало серьезным:
– Пусть так будет, сыне. Но знай – меч держать легко. Тяжелей – справу творить.
– Какую справу? – не понял мальчик.
– Узнаешь, когда время придет. А сейчас пора спать. Завтра домой поедем.
Они пошли к большому шатру, где была устроена княжеская опочивальня. Василько то и дело оборачивался, не желая расставаться с удивительным миром воинского лагеря.
– Батюшка, а дядька Медведь – он правда богатыря убил?
– Медведя и спроси. Воины любят байки рассказывать.
– А Ратибор где? Хочу его увидеть!
– Ратибор в дозоре. Но увидишь еще. Он теперь твоим наставником будет – я договорился.
В шатре пахло кожей и воском от свечей. На походной кровати лежали мягкие меха. Василько улегся, но сон не шел – в голове все кружились картины дня. Воины, мечи, кони, хоругви…
– Батюшка, – сонно пробормотал он. – А когда я большой стану, у меня тоже будет своя дружина?
– Будет, сын. Если заслужишь. Спи теперь.
Но еще долго мальчик лежал с открытыми глазами, слушая ночные звуки лагеря – тихие голоса дозорных, покашливание коней, далекую песню у костра. И мечтал о том дне, когда и он сможет называться настоящим воином.
За стенками шатра ночная Вёкса мерно плескалась о берег, и этот древний шепот воды казался Васильку таинственной песней о будущих подвигах, дальних походах и рыцарской славе.
Пока что это была прекрасная игра, полная света и радости.
Скоро он узнает правду. Но не сегодня.
В тот год Василько прошел обряд пострига. Обычно князей постригали раньше, но из-за смерти матери, деда и других забот – отложили.
Собрались в домовой церкви. Епископ Кирилл в золотой ризе, отец в парадном платье, бояре, дружинники. Василько стоял в белой рубахе, волосы распущены до плеч.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…
Золотые ножницы блеснули. Прядь русых волос упала на серебряное блюдо. Епископ трижды обошел вокруг княжича, окропил святой водой.
– Отныне ты не дитя, но отрок, – возгласил владыка. – Время игр прошло, время учения настало.
Князь Константин взял сына за руку, вывел во двор. Там ждал боевой конь – не огромный, как у взрослых, но и не жеребенок. Гнедой, с белой звездой на лбу.
– Твой конь, сын. Имя ему – Ветер. Садись.
Дружинники подсадили. Конь понес. «Упаду – позор на весь век». Василько вспомнил, как учил Митька, как советовал Ратибор: «Коня не вяжут, его ведут».
Он расслабился, почувствовал ритм скачки. И конь послушался.
Отец ждал его с мечом – коротким, по росту.
– Это тебе. Учись владеть. Не забывай, что я говорил о мече. Теперь учись держать его в руках.
Сначала были мелкие стычки. Отряды Константина и Юрия встречались на границах, перестреливались, расходились. Потом начались осады малых городов, грабежи сел.
Василько видел, как меняется отец. Веселый, любивший книги и строительство князь становился суровым воином. Целыми днями в седле, на военных советах, в кузницах.
– Батюшка, зачем война? – спросил однажды княжич. – Вы же братья с дядей Юрием…
– Затем, что правда должна восторжествовать, – отрезал Константин. – Я старший. Мне и княжить во Владимире. Не понимаешь – молчи.
Но Василько не молчал. Ночами молился в домовой церкви:
– Господи, примири батюшку с дядей. Не дай братьям кровь пролить…
В конце марта пришла весть – к Константину идет на помощь новгородский князь Мстислав Удатный со своей дружиной. Старый воин, гроза половцев, решил поддержать старшего Всеволодовича.
– Теперь победа наша! – ликовали бояре.
Стали готовиться к решающей битве. Место выбрали у реки Липицы – там сходились дороги, удобно было и атаковать, и обороняться.
Накануне выступления войска на Липицу Василько прокрался в отцовскую молельню. Князь стоял перед иконами.
– Батюшка… Возьми меня с собой!
– Рано. – Голос стал жестким. – Ты – мой наследник. Если со мной что случится – ты останешься.
Константин опустился на колени перед сыном, взял его за плечи.
– Ты спрашивал, зачем война с братом. Слушай. Потому что правда не побеждает сама по себе. Правду насаждают мечом. Чем он острее, тем скорее все признают твою правду.
Он помолчал, собираясь с мыслями.
– Я иду на Юрия не потому, что он плохой, а я хороший. А потому, что на этой земле не может быть двух хозяев. Как в берлоге не может быть двух медведей. Один убьет другого. Таков закон. И у людей, и у зверей.
– Но вы же братья…
– Брат, дядя, сват… Это все слова для церкви и для пиров. Когда речь идет о власти, есть только соперники. Дядя твой – волк по духу. И каждый из этих бояр, что кричат мне "слава!" – тоже волк, только помельче. Они чуют слабость за версту. Запомни это, Василько. Ты не имеешь права быть слабым. Никогда. Даже со мной.
Войско выступило на рассвете, 9 апреля 1216 года. Василько с башни провожал – конные и пешие, в блестящих кольчугах, с яркими стягами. Отец обернулся, помахал рукой.
Ждали две седмицы. Потом прискакал гонец – загнанный конь пал у ворот, сам всадник едва держался в седле.
– Победа! – выкрикнул, падая. – Князь Константин – великий князь!
Город взорвался ликованием. Звонили колокола, народ высыпал на улицы. Василько бегал по стенам, кричал вместе со всеми.
Но к вечеру пришли подробности. Битва была страшная. Юрий с братьями Ярославом и Святославом бились отчаянно. Новгородцы Мстислава решили дело – ударили с фланга, смяли владимирские полки.
Погибших – тысячи. Среди них много знакомых – дружинники отца, бояре ростовские. Река Липица красная от крови. После битвы в Ростов стали прибывать раненые. Василько с Митькой помогали – носили воду, перевязки.
Однажды утром княжич увидел под яблоней горлицу со сломанным крылом. Осторожно подошел. Птица затихла.
– Что нашел? – Рядом стоял Ратибор.
– Горлица раненая. Помочь надо.
Ратибор одним плавным движением опустился на корточки.
– Крыло сломано. Жить будет, если выходишь.
Устроили горлице гнездо. Через неделю птица начала поправляться.
– Видишь, – сказал однажды Ратибор, наблюдая за Васильком. – Князья за Владимир бьются, а страдает земля. Эта птаха не знает, кто из них прав, кто виноват. А крыло потеряла. Большая война всегда бьет по малым. Так то, княжич.
Горлица выжила, но летать не могла. Василько назвал ее Тихоней.
Прискакал гонец от отца. Великий князь Константин звал сына во Владимир. Василько с малой дружиной и боярами выехал в путь. Дорога дальняя – четыре дня пути. По сторонам – следы войны: сожженные деревни, вытоптанные поля.
Владимир встретил настороженно. Ворота открыли, но народ на улицах хмурый – привыкли к Юрию, Константина побаиваются.