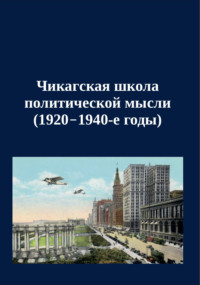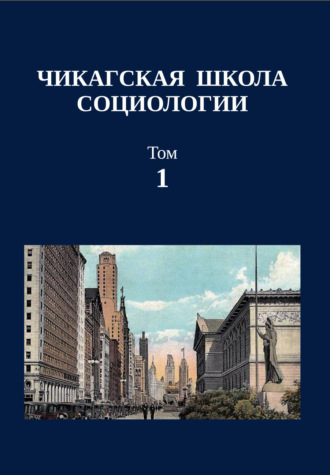
Полная версия
Чикагская школа социологии. Сборник переводов. Том 1
При сопоставлении маленькой семьи этих городских ареалов с родовой или широкой семейной группой – будь то в древнем Израиле, Греции или Риме или в сегодняшней Индии, Японии или Китае, или даже с большой крестьянской семьей Польши или России, или с родственными кланами американских сельских сообществ, – сразу же обнаруживаются различия. Большая семейная группа стремится в каждой культуре отливаться в одну стандартизированную форму, а маленькая семья в пределах одной и той же культуры стремится к проявлению разнообразия паттернов. В американском обществе уже обнаруживаются следующие паттерны (классифицированные по размеру семьи): бездетная семья, или так называемый «компаньонский брак»; семья с единственным ребенком; семья с двумя детьми; семья с тремя и более детьми. И это не просто биологические или экономические классы; они в значительной степени определяются обычаем или новыми веяниями в народных обычаях. Д-р Маурер[90] даже классифицировал ареалы города по типам семейной жизни: несемейные ареалы с их хобогемными и богемными центрами; ареалы так называемой эмансипированной семьи в регионах доходных домов; патриархальные семейные ареалы иммигрантских колоний; ареалы эгалитарной семьи в районах многоквартирных домов; и, наконец, в так называемых спальных пригородах тот новый тип семьи, в котором муж уезжает в даунтаун еще до того, как дети проснутся, и возвращается домой, когда они уже спят, – современная матриархальная семья, или, как, может быть, будет точнее, матрицентрическая семья. Это соотношение между культурными ареалами города и типами семейной жизни – не случайное совпадение. Оно говорит о способах, которыми семейная жизнь связывается с экологией города. Паттерн семейной жизни развивается в определенных жизненных условиях и расцветает лишь в согласии с народными обычаями и нравами локального сообщества.
Далее, я нашел весьма полезным классифицировать семьи по паттерну личных отношений между мужем и женой и родителями и детьми. Вскоре прорисовались два контрастных паттерна: высокоинтегрированная семья и неинтегрированная или слабоинтегрированная семья. Их, в свою очередь, можно было подразделить на несколько разновидностей. В ходе анализа обнаружилось, что высокоинтегрированная семья обладает одной или более из следующих черт: проработанный ритуал, строгая дисциплина, взаимная зависимость в чувствах; стимулирующие кооперативные деятельности или цели. Неинтегрированная или слабоинтегрированная семья со своей стороны имела мало или вовсе не имела ритуала, осуществляла слабый контроль через дисциплину или сентиментальную привязанность, и ее члены были лишь в малой степени объединены общими семейными целями, которым были бы подчинены индивидуальные цели. Типичная ортодоксальная еврейская семья обладала в заметной степени всеми чертами, позитивно характеризующими высокоинтегрированную семью. Пуританская семья, стигматизированная младшим поколением как «пуританская» в пренебрежительном смысле, – яркая иллюстрация интеграции через такие характеристики, как строгая дисциплина и главенствующие семейные цели.
Это исследование паттернов личных отношений в семейной жизни напрямую вело к концепции семьи как единства взаимодействующих персон. Под единством взаимодействующих личностей имеется в виду нечто живое, меняющееся, растущее. Его впору даже назвать сверхличностью. Во всяком случае, действительное единство семейной жизни имеет свое существование не в какой-либо правовой концепции и не в каком-либо формальном договоре, а во взаимодействии его членов. Ибо семья не зависит в своем выживании от гармоничных отношений между ее членами и не обязательно распадается в результате конфликтов между ее членами. Семья живет до тех пор, пока длится взаимодействие, и умирает лишь тогда, когда оно прекращается.
В недавно написанной работе о семейной дезорганизации (которая скоро выйдет в свет) д-р Эрнест Р. Маурер отмечает, что взаимодействие как принцип семейной жизни относится не только к интеркоммуникации внутри семьи, но и к отношениям, которые семья поддерживает с окружающим обществом. Он пишет:
«Социологическая концепция семьи как единства, существующего во взаимодействии, имеет два основных аспекта. Она означает прежде всего, что семья – это взаимодействие личностей, а не просто обычное закрепление сексуальных, родительских и сыновних / дочерних инстинктов. Социологическое описание семейного взаимодействия, стало быть, будет естественным образом делаться в терминах социально определенных импульсов, таких как желания, установки и чувства.
Семья также существует во взаимодействии с более широким обществом, в котором семья и ее члены являются составными частями. Статус семьи в соседстве, ее роль, как она определена в нравах, в общественном мнении и законом, изменения в семье, возникающие из игры социальных сил в сообществе, – все это иллюстрации значимости для семьи и ее членов взаимодействия с обществом»[91].
Семья даже нечто большее, чем взаимодействие личностей. В этом взаимодействии семья развивает представление о самой себе. Когда это представление о семейных отношениях признается сообществом, семья обретает институциональный характер. Именно это имеется в виду под семьей как социальным институтом. Семья, у которой не было бы никакого представления о своей роли в сообществе или об обязанностях отдельных ее членов, не была бы институтом и, возможно, даже семьей. Именно эти естественные отношения семейной жизни, обязательства и ответственности, спонтанно принимаемые в семейном взаимодействии, сообщество стремится сначала через обычай, а затем через право определить, сделать договорными и обеспечить. Но везде и всегда тем, кто имеет дело с проблемами семейной жизни, важно прежде всего признавать, что семья как реальность существует во взаимодействии ее членов, а не в формальностях права с его положениями о правах и обязанностях.
Очень часто семью мыслят как простое собрание взаимодействующих индивидов, а не как единство взаимодействующих персон. Здесь кроется исследовательская ценность терминологического различия, проведенного профессором Парком между индивидом и персоной.
«Персона – это индивид, который имеет статус. Мы приходим в мир как индивиды. Мы приобретаем статус и становимся персонами. Статус означает позицию в обществе. Индивид неизбежно имеет какой-то статус в каждой социальной группе, членом которой он является. В любой социальной группе статус каждого члена определяется его связью с каждым другим членом этой группы… Самосознание индивида – его представление о своей роли в обществе, короче говоря, о своем “я”… базируется на его статусе в социальной группе или группах, членом которых он является»[92].
Это определение персоны как индивида, обладающего статусом, пролило поток света на семейное взаимодействие. Члены семьи реагируют друг на друга как индивиды, и это важно. Но при этом они реагируют друг на друга как персоны, и это тоже важно. Ибо каждая персона имеет, с большей или меньшей осознанностью, представление о своей роли не только в обществе, но и во всех группах, в которых она состоит. Персона имеет не только живое представление о своей роли в семье, но также чувство ролей всех других членов семьи и некоторое понятие о том, что такое семейная жизнь и какой она должна быть. Роли хорошего отца, хорошей матери и хорошего ребенка властно входят в определение представления, которое каждый член имеет о своем месте в мире семейной жизни.
В стабильном, гомогенном обществе идеи о семейной жизни и о ролях разных членов семьи относительно фиксированы и постоянны. В изменчивом обществе, образованном из гетерогенных элементов, семейные установки пребывают почти неизбежно в текучем состоянии. Вместо общего паттерна семейной жизни, закрепленного в традиции и подавляющего всякий порыв к изменчивости самим весом всеобщей конформности, наше американское общество являет то, что на первый взгляд кажется хаотичным скоплением всех мыслимых паттернов семейной организации и дезорганизации, от патриархальных родовых групп наших южных гор до свободных союзов наших гринвичских деревень. Едва ли не каждый день публику шокирует и выводит из себя какая-нибудь новая форма дикого, безрассудного поведения, особенно бунтующей молодежи, не регулируемой более никакими обычными способами контроля.
Но эти случайные и бесцельные вариации, отклоняющиеся от базового паттерна семейной жизни, не являются, как некоторые считают, индикатором будущего семейной жизни и сексуальных отношений. В настоящем, как и в схожие времена в прошлом, это всего лишь симптомы того, что общество претерпевает изменение. Когда равновесие восстановится, возникнет новый паттерн семейной жизни, лучше адаптированный к новой ситуации, но это будет лишь еще одна разновидность старого знакомого паттерна личных отношений в семье.
Основные потоки социальных влияний, воздействующих на семью, можно, однако, в общем и целом очертить. Они были умело представлены в докладе профессора Эрнеста Р. Гроувза, прочитанном перед этой группой в прошлом году в Чикаго[93]. Уход господства мужчины, эмансипация женщины и ее вхождение во все области экономической, социальной и гражданской жизни, родительство по выбору, переход от усадебного домохозяйства к дому в небольшой квартире или отеле – вот лишь немногие из влияний, по-новому и дестабилизирующе воздействующих на семейное взаимодействие. Более неосязаемы, но даже более динамичны едва различимые изменения, происходящие в нашем представлении о семье и роли ее членов. Только по контрасту мы осознаем революционность изменений в наших установках, например разницу между установками сицилийского иммигранта и урожденного американца в отношении развода.
В Маленькой Сицилии в Чикаго д-р Маурер не обнаружил ни одного случая оставления семьи или развода, зарегистрированного в суде по семейным отношениям или в верховном и окружном судах. Одна итальянка, работающая социальным работником в этом районе, сообщила, что ни разу не сталкивалась с подлинным случаем, когда муж-сицилиец бросил бы свою семью, хотя это один из тех ареалов, где царит бедность. Развод или уход из семьи не посещают ум сицилийца как мыслимое решение семейных проблем. Его преобладающий кодекс поведения, его нравы и его религиозные чувства действенно исключают бегство от семейной ответственности, предлагаемое уходом из семьи или судебным решением о разводе. Между тем расставание и развод, некогда запрещаемые американскими нравами, теперь, по крайней мере в некоторых случаях, стали негласно получать санкцию сообщества. Во всяком случае, возможность разрушения семьи входит как фактор в комплекс семейных установок, где она в американском обществе полвека назад почти совершенно отсутствовала.
В своем проницательном докладе профессор Гроувз привел особенно интересное объяснение влияния конфликтующих представлений о семейной жизни. Современный муж понимает роль, которую должна играть в семье его жена, по подобию со своей матерью (социологическая адаптация теории материнского образа), тогда как жена мыслит свою роль как реализацию некоторого воплощения новой женщины. Найдется ли семья, в которой это совершенно естественное расхождение в семейных идеалах не было бы самой сутью конфликта – возможно, легкого, а возможно, сурового? И как интересно было бы узнать разные решения, которые были здесь выработаны!
Следующие выдержки из кейс-стади одного из наших студентов ярко рисуют влияние на семейную жизнь конфликтующих паттернов семейных идеалов. Назовем этот случай «семья Марксов» – не потому что у них и в самом деле такая фамилия, а потому что это обозначение говорит о немецком происхождении отца. Отец, как и очень многие из родителей, почерпнул свои представления о роли родителей и детей из семейного паттерна, в котором сам вырос.
«В начале 90-х семья Марксов, состоящая из дедушки и бабушки по отцовской линии и их сына, ребенка двух лет, эмигрировала из Германии в Цинциннати, шт. Огайо. Там дедушка работал извозчиком и несколько лет подрядчиком. Старший сын, м-р Маркс нашей небольшой семейной группы, в 12 лет работал у своего отца извозчиком в тяжелый сезон. Вскоре в семье прибавились еще один сын и дочь, и экономическая борьба за выживание стала суровой. В возрасте 14 лет его забрали из школы и отправили работать по 10–12 часов в день. Заработанные деньги отдавались его отцу, а он был “счастлив тому, что у него есть монетка в десять центов, которую можно потратить на 4 июля”. В возрасте 18 лет он поступил в кавалерию на испано-американской войне, а позже нес активную службу на Филиппинах. Возвращаясь домой после увольнения из армии, он остановился в одном небольшом городке, чтобы навестить друга. Там он встретился с миссис Маркс и женился на ней».
Эта картина семейного паттерна родителей, хотя и не детализирована, дает представление о характерных чертах немецко-американской иммигрантской семьи: применение родительской власти, строгая дисциплина, подчинение индивидуальных членов цели экономического обеспечения и успеха семьи. Краткий очерк семейной истории подведет нас ближе к описанию семейного взаимодействия в настоящее время.
«Поскольку отец его умер вскоре после его женитьбы, м-р Маркс со своей молодой женой переехал в Цинциннати, чтобы подхватить угасающий подрядный бизнес. Мать за время его отсутствия стала довольно грубой и меланхоличной, и он всячески старался угождать ее желаниям и проявлять все почтение и послушание, причитающееся человеку, который так много для него сделал. В соответствии с ее пожеланиями первого ребенка назвали Вильгельмом (Уильямом). Спустя четыре года родился Генри, а еще всего через год – Джозеф. В самом начале Мировой войны м-р Маркс записался на службу в армию и находился в лагере около Коламбуса, где поселилась его семья. В конце 1919 г. он был с почестями отправлен в отставку. Сразу после этого он вступил в Национальную гвардию и командовал кавалерийским отрядом, дислоцированным в небольшом городе, где жила его овдовевшая бабушка по материнской линии.
М-р Маркс заметил, что Уильям в его отсутствие стал быстро расти, и это длится до сих пор; сегодня он ростом уже шесть футов, а ему только 16 лет. В то же время м-р Маркс стал замечать, что он “капризничает”, становится ленивым, плохо успевает в школе и избегает чужих. Он играл с мальчиками помладше и не слушался своей матери, которая от отчаяния опустила руки и стала полагаться на порки, устраиваемые отцом. Они имели мало воздействия, и Уильям ушел из школы и пошел работать. С тех пор он терял любую работу, которую находил, в первые же недели или месяц. Он продолжал неряшливо одеваться, бездельничать и не подчиняться. Уильям – проблема семьи; все так или иначе в это вовлечены, обсуждая его и говоря, что он должен делать».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В обновленном виде текст этой статьи инкорпорирован в монографию: Ефременко Д.В., Николаев В.Г. Мыслители города ветров. Прагматистская социальная наука в Чикаго в первой половине XX века: монография / ИНИОН РАН; под общ. ред. Н.Е. Покровского. – Москва, 2024. – 297 с.
2
Николаев Владимир Геннадьевич – канд. социол. наук, доцент департамента социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), ст. науч. сотр. отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН.
3
К настоящему времени, помимо журнальных публикаций, в ИНИОН РАН были подготовлены и изданы сборники переводов: Вирт Л. Избранные работы по социологии: сб. переводов / ИНИОН РАН; Центр социал. науч. – информ. исследований; отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Л.В. Гирко. – Москва, 2005; Мид Дж. Г. Избранное: сб. переводов / ИНИОН РАН; Центр социал. науч. – информ. исследований; отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – Москва, 2009; Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины ХХ века: сб. переводов / ИНИОН РАН; Центр социал. науч. – информ. исследований; отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – Москва, 2010; Парк Р.Э. Избранные очерки: сб. переводов / ИНИОН РАН; Центр социал. науч. – информ. исследований; отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – Москва, 2011.
4
Наиболее представительная подборка критических работ о Чикагской школе содержится в: Chicago sociology: Critical assessments / Ed. by K. Plummer; in 4 vol. – London: Routledge, 1997. Емкий общий обзор и аннотированную библиографию см.: Kurtz L.R. Evaluating Chicago sociology: a guide to the literature, with an annotated bibliography. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1984. Другие важные публикации: Abbott A. Department and discipline: Chicago sociology at one hundred. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1999; Carey J.T. Sociology and public affairs: The Chicago school. – Beverly Hills (CA): SAGE, 1975; Faris R.E.L. Chicago sociology, 1920–1932. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1967; Harvey L. Myths of the Chicago school of sociology. – Aldershot: Avebury, 1987; Hinkle R.C. Developments in American sociological theory, 1915–1950. – Albany: State univ. of New York press, 1994; Lewis D.J., Smith R.L. American sociology and pragmatism: Mead, Chicago sociology and symbolic interactionism. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1980; Matthews F. Quest for an American sociology: Robert E. Park and the Chicago school. – Montreal: McGill-Queen’s univ. press, 1977; Smith D. The Chicago school: A liberal critique of capitalism. – London: Macmillan, 1988; The tradition of the Chicago school of sociology / Ed. by L. Tomasi. – Aldershot; Brookfield (VT): Ashgate, 1998. Важнейшие публикации на русском языке: Баньковская С.П. Роберт Парк; Эрнст Бёрджесс // Современная американская социология / под ред. В.И. Добренькова. – Москва: Изд-во МГУ, 1994. – С. 3–32; Николаев В.Г. Многомерные и редукционистские стратегии в чикагской социологии: случай человеческой экологии // Социологический журнал. – 2009. – № 2. – С. 18–55. Имеются также отдельные статьи о Р.Э. Парке, Дж. Г. Миде, Л. Вирте, Э.Ч. Хьюзе, Р. Редфилде, Г. Блумере, Л. Эдвардсе.
5
См. особенно: Bulmer M. The Chicago school of sociology: Institutionalization, diversity and the rise of sociological research. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1984; Platt J. A history of sociological research methods in America, 1920–1960. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996.
6
На факультете работали не только социологи, но и антропологи, причем очень известные и влиятельные – Э. Сепир, Р. Редфилд.
7
Hull-House maps and papers: A presentation of nationalities and wages in a congested district of Chicago, together with comments and essays on problems growing out of the social conditions. – New York: T.Y. Crowell & co., 1895. О значимости этих исследований для Чикагской школы см.: Deegan M.J. Jane Addams and the men of the Chicago school, 1892–1918. – New Brunswick (NJ): Transaction books, 1988.
8
Детальную ее реконструкцию можно найти в статье: Николаев В.Г. Многомерные и редукционистские стратегии в чикагской социологии: случай человеческой экологии // Социологический журнал. – 2009. – № 2. – С. 18–55.
9
Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: история, современность, перспективы: альманах журнала «Социологическое обозрение». – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2008. – С. 29–43.
10
См.: Парк Р.Э. Избранные очерки: сб. переводов / ИНИОН РАН; Центр социал. науч. – информ. исследований; отд. социологии и социал. психологии; сост. и пер. В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – Москва, 2011. – С. 19–56.
11
Например, юкатанские и гватемальские исследования Р. Редфилда были выстроены в соотнесении с континуумом «народное – городское» и сфокусированы на изменениях, происходящих в народных (традиционных) культурах под воздействием вторгающейся в них современности и урбанизма. См.: Николаев В.Г. Роберт Редфилд и его концепция «народного общества» в контексте чикагской социально-научной традиции // Личность. Культура. Общество. – Москва, 2008. – Т. 10. – Вып. 5–6. – С. 99–112.
12
Как писал Р.Э. Парк, «в городе любое качество человеческой природы не только наглядно проявляется, но и усиливается. В городе, на свободе, каждый индивид, каким бы эксцентричным он ни был, непременно находит ту среду, в которой он может развить и каким-либо образом проявить особенности своей природы. И маленькое сообщество иногда терпит эксцентричность, но город зачастую и вознаграждает ее. Несомненно, город притягивает тем, что здесь любой тип индивида – будь то преступник или попрошайка, равно как и гений – всегда найдет подходящую компанию, и порок или талант, сдерживаемый в более тесном кругу семьи или в более узких рамках малого сообщества, обнаруживает здесь моральный климат, в котором он расцветает. А в целом, все заветные чаяния и все подавленные желания находят в городе то или иное выражение. Город усиливает, простирает и выставляет напоказ человеческую природу во всех ее разнообразных проявлениях. Именно это привлекает или даже притягивает в город. И именно это делает его наилучшим из всех мест для раскрытия потаенных человеческих сил и для изучения человеческой природы и общества» (Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: история, современность, перспективы: альманах журнала «Социологическое обозрение». – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2008. – С. 42–43).
13
Zorbaugh H.W. The Gold Coast and the slum. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1929.
14
Wirth L. The ghetto. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1928.
15
Johnson C.S. The Negro in Chicago: A study of race relations and a race riot in 1919. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1922.
16
Young P.V. The pilgrims of Russian town. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1932.
17
Mowrer E.R. Family disorganization: An introduction to a sociological analysis. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1927.
18
Frazier E.F. The Negro family in Chicago. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1932.
19
В частности: Burgess E.W., Locke H.J. The family: from institution to companionship. – New York: American book co., 1945; Burgess E.W., Wallin P. Engagement and marriage. – Chicago (IL): Lippincott, 1953.
20
Donovan F.R. The saleslady. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1929.
21
Hughes E.C. The growth of an institution: the Chicago real estate board. – Chicago (IL): Arno press, 1979.
22
Hughes H.M. News and the human interest story. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1940.
23
Park R.E. Immigrant press and its control. – New York; London: Harper & bros, 1922.
24
Blumer H. Movies and conduct. – New York: Macmillan, 1933; Blumer H., Hauser P.M. Movies, delinquency and crime. – New York: Macmillan, 1933; Blumer H. Private monograph on movies and sex // Jowett G.S., Jarvie I.C., Fuller K.H. Children and the movies: media influence and the Payne Fund controversy. – New York: Cambridge univ. press, 1996. – P. 281–301.
25
Hayner N. Hotel life. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1936.
26
Cressey P.G. The taxi-dance hall. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1932.