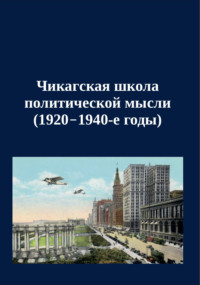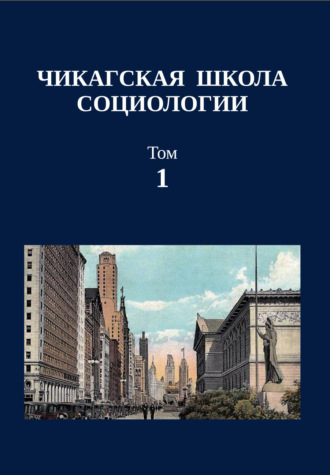
Полная версия
Чикагская школа социологии. Сборник переводов. Том 1
Помимо расширения и последовательности общий процесс экспансии в городском росте заключает в себе антагонистические, но вместе с тем взаимно дополняющие друг друга процессы концентрации и децентрализации. Во всех городах имеется естественная тенденция к схождению линий внутренних и внешних транспортных перевозок в центральном деловом районе. В центре каждого крупного города мы ожидаем найти большие универмаги, высотные офисные здания, железнодорожные станции, большие гостиницы, театры, музей изобразительных искусств и городской концертный зал. Вполне естественно и почти неизбежно экономическая, культурная и политическая жизнь оказываются сосредоточены именно здесь. Связь централизации с другими процессами городской жизни можно приблизительно измерить тем фактом, что «Большую Петлю» (центральный деловой район Чикаго) ежедневно посещают более полумиллиона людей. В последнее время в лежащих за пределами города зонах выросли подчиненные деловые центры. Эти «центры-спутники», видимо, представляют собой вовсе не «долгожданное» возрождение прилегающих окрестностей, а скорее вовлечение нескольких локальных сообществ в более широкое экономическое единство. Вчерашний Чикаго, бывший скоплением сельских поселков и иммигрантских колоний, переживает процесс реорганизации и превращения в централизованную децентрализованную систему локальных сообществ, срастающихся в подчиненные деловые районы, над которыми зримо или незримо господствует центральный деловой район. Действительные процессы того, что можно было бы назвать централизованной децентрализацией, изучаются в настоящее время на примере развития торговых сетей, которые служат лишь одной из иллюстраций изменения, происходящего в самих основаниях городской организации[76].
Экспансия, как мы уже увидели, связана с физическим ростом города и расширением технических служб, которые сделали городскую жизнь не только сносной, но и удобной, даже приятной. Некоторые из этих основополагающих потребностей городской жизни возможны лишь благодаря колоссальному развитию коммунального существования. Три миллиона людей, живущих в Чикаго, зависят от единой системы водоснабжения, одной гигантской газовой компании и одной огромной электростанции. Между тем, как и большинство других аспектов нашей коммунальной городской жизни, это экономическое сотрудничество представляет собой пример кооперации, в которой нет и доли того «духа сотрудничества», который в ней обычно предполагают. Крупные муниципальные службы являются частью механизации жизни в больших городах и почти или вовсе не имеют значения для социальной организации.
Тем не менее процессы экспансии, и особенно ее темпы, можно изучать не только в физическом росте и развитии бизнеса, но и в вытекающих из них изменениях в социальной организации и личностных типах. Насколько рост города в его физическом и техническом аспектах сопровождается естественной, но адекватной перестройкой в социальной организации? Какой темп экспансии является для города нормальным, то есть таким, за которым могли бы успешно поспеть управляемые изменения в социальной организации?
Социальная организация и дезорганизация как процессы метаболизмаНа эти вопросы, пожалуй, легче всего ответить, если мыслить городской рост как результат организации и дезорганизации, аналогичных анаболическим и катаболическим процессам в метаболизме живого тела. Каким образом индивиды инкорпорируются в жизнь города? Благодаря какому процессу человек становится органической частью своего общества? Естественный процесс усвоения культуры начинается с рождения. Человек рождается в семье, уже приспособленной к социальной среде – в данном случае к современному городу. В качестве естественного прироста населения, наиболее благоприятного для ассимиляции, можно, следовательно, принять преобладание рождаемости над смертностью. Но является ли это нормой для роста города? Определенно, современные города повышали и повышают численность своего населения с гораздо более высокой скоростью. Между тем естественный темп прироста можно использовать как мерило для расстройств метаболизма, вызываемых любым избыточным приростом, например расстройств, которые последовали за великим наплывом негров с Юга в северные города после войны. Аналогичным образом все города демонстрируют отклонения в половозрастном составе от стандартного населения, каковым является население Швеции, не затронутое в последнее время великими волнами эмиграции или иммиграции. Опять-таки эти заметные отклонения, как, например, любое значительное преобладание мужчин над женщинами или женщин над мужчинами, искаженные численные пропорции детей или взрослых мужчин и женщин в населении, являются симптомами аномалий в социальном метаболизме.
Обычно процессы дезорганизации и организации могут рассматриваться как взаимно связанные друг с другом и как сообща подталкивающие равновесие социального порядка к цели, неявно или определенно трактуемой в качестве прогрессивной. Поскольку дезорганизация ведет к реорганизации и обеспечивает более эффективное приспособление, дезорганизацию мы должны понимать не как патологический, а как нормальный процесс. Дезорганизация как первый шаг к реорганизации установок и поведения почти неизменно становится уделом человека, только что поселившегося в городе. Расставание с привычным, которое зачастую совпадало для него с моральным, нередко сопровождается мучительным душевным конфликтом и переживанием личной потери. Но, пожалуй, чаще всего такое изменение рано или поздно приносит чувство избавления и стремление к новым ориентирам.
В ходе экспансии города совершается процесс распределения, который просеивает, сортирует и передислоцирует индивидов и группы по разным местам проживания и родам занятий. Возникающая в итоге дифференциация космополитического американского города на ареалы, как правило, подчиняется одному образцу, разве что с любопытными незначительными модификациями. В центральном деловом районе или на примыкающей улице располагается «основной костяк» так называемой Хобогемии, многолюдный Риальто бездомного странника со Среднего Запада[77]. В зоне запустения, окружающей центральный деловой квартал, всегда можно обнаружить так называемые «трущобы» и «пустыри» с их опустившимися районами нищеты, деградации и нездоровья, а также преисподними преступности и порока. В пределах зоны разложения есть и районы доходных домов, чистилище «заблудших душ». Неподалеку имеется Латинский квартал, где обитают творческие и мятежные характеры. Кроме того, трущобы до предела набиты иммигрантскими колониями; тут есть и Гетто, и Маленькая Сицилия, и Греческий городок, и Чайнатаун, где старые мировые традиции причудливо сочетаются с американскими адаптациями. Отсюда выклинивается Черный пояс с его свободной и беспорядочной жизнью. Зона запустения, будучи по своей сути ареалом загнивания и стационарного или сокращающегося населения, является в то же время и зоной регенерации, о чем свидетельствуют душеспасительные миссии, благотворительные учреждения, колонии художников, радикальные центры – все как на подбор одержимые ви́дением нового и лучшего мира.
Следующая зона тоже населена в основном промышленными рабочими и работниками магазинов, но квалифицированными и добившимися успеха. Это ареал второго иммигрантского заселения; обычно здесь селятся иммигранты второго поколения. Это регион бегства из трущобы, Deutschland честолюбивой еврейской семьи из Гетто. Ведь Deutschland (буквально «Германия») – это название, данное наполовину из зависти, наполовину в насмешку району вне Гетто, где удачливые соседи подражают внешним стандартам жизни немецких евреев. Однако сам обитатель этого ареала, в свою очередь, смотрит с надеждой на внешнюю «Обетованную землю», ее меблированные комнаты в гостиницах или доходных домах, ее «центры-спутники» и районы «неоновых вывесок».
Эта дифференциация на естественные экономические и культурные группировки придает городу его форму и характер. Ведь сегрегация предлагает группе, а тем самым и индивидам, эту группу составляющим, место и роль в целостной организации городской жизни. Сегрегация ограничивает развитие в одних направлениях, но освобождает ему дорогу в других. Эти ареалы тяготеют к акцентировке определенных черт, привлечению и развитию своего особого типа индивидов и, тем самым, к углублению дифференциации.
Разделение труда в городе точно так же иллюстрирует дезорганизацию, реорганизацию и возрастающую дифференциацию. Иммигрант, приехавший из сельских сообществ Европы и Америки, редко привозит с собой экономический навык, имеющий хоть сколько-нибудь весомую ценность в нашей промышленной, коммерческой или профессиональной жизни. Однако произошел любопытный профессиональный отбор на основе национальности, в результате которого у нас есть теперь ирландские полисмены, греческие кафе-мороженое, китайские прачечные, негры-носильщики и бельгийские привратники. Этот отбор можно объяснить скорее расовым темпераментом или обстоятельствами, нежели экономическими традициями миров, в которых эти иммигранты жили раньше.
Тот факт, что миллион индивидов в Чикаго (996 589) успешно работал в 509 официально зарегистрированных родах занятий, а 1 тыс. мужчин и женщин, чьи имена вошли в справочник Who’s who, представляли 116 разных профессий, дает некоторое представление о том, как мельчайшая дифференциация профессий в городе «анализирует и просеивает население, разделяя и классифицируя разнородные элементы»[78]. Эти цифры позволяют также представить сложность и запутанность современного промышленного механизма и тонкую сегрегацию и обособление разделившихся экономических групп. С этим экономическим разделением труда тесно связано соответствующее разделение на социальные классы и на культурные и рекреационные группы. Среди этой множественности групп с их различающимися паттернами жизни человек находит конгениальный ему социальный мир и – что совершенно неосуществимо в узких границах деревни – может двигаться и жить в абсолютно раздельных и, возможно, даже конфликтующих друг с другом мирах. Личностная дезорганизация может быть всего лишь неудачей в гармонизации канонов поведения двух различающихся групп.
Хотя феномены экспансии и метаболизма показывают, что умеренная степень дезорганизации может способствовать и действительно способствует социальной организации, они показывают также и то, что быстрая городская экспансия сопровождается необычайным ростом заболеваемости, преступности, порока, умопомешательства и самоубийств, а все это примерные показатели социальной дезорганизации. Но каковы показатели причин – в отличие от показателей следствий – расстроенного социального метаболизма города? В качестве критерия уже было предложено взять превышение действительного прироста населения над естественным. Значимость этого прироста заключается в том, что в крупный городской центр вроде Нью-Йорка или Чикаго ежегодно прибывают десятки тысяч иммигрантов. Их проникновение в город обладает эффектом приливной волны, накрывающей сначала иммигрантские колонии и порты прибытия, затем выталкивающей тысячи их обитателей в следующую зону – и так далее, пока инерционная сила волны не доберется до самой последней городской зоны. Совокупным эффектом становится ускорение экспансии, ускорение развития промышленности и ускорение процесса «захламления и обветшания» в зоне запустения (II). Эти внутренние движения населения становятся все более важными для исследования. Какое движение происходит в городе, и как можно измерить это движение? Классифицировать движение в городе, конечно, легче, чем его измерить. Есть переезд с одного места жительства на другое, изменение рода занятий, текучесть рабочей силы, движение на работу и с работы, движение ради отдыха и приключений. Это подводит к вопросу: какой аспект движения важен для изучения изменений в городской жизни? Ответ на этот вопрос непосредственно ведет к проведению важного различия между движением и мобильностью.
Мобильность как пульс сообществаСамо по себе движение не является свидетельством изменения или роста. На самом деле движение может быть фиксированным и неизменным порядком перемещения, призванным контролировать постоянную ситуацию, например в случае рутинного движения. Движение, значимое для общества, предполагает изменение движений в ответ на новый стимул или ситуацию. Изменение движения этого рода называется мобильностью. Движение, имеющее рутинный характер, находит свое типичное выражение в работе. Изменение движения, или мобильность, выражается характерным образом в рискованном приключении. Большой город – с его «неоновыми вывесками», торговыми центрами, где торгуют новинками и устраивают дешевые распродажи, дворцами увеселений, подпольным миром порока и преступности, рисками и страхованием жизни и собственности от несчастного случая, кражи и убийства – стал зоной, где до предела выросли дух приключения и опасность, душевный подъем и нервное возбуждение.
Мобильность естественным образом заключает в себе изменение, новый опыт, стимуляцию. Стимуляция вызывает реагирование человека-персоны на те объекты его внешнего окружения, которые дают выражение его желаниям. Для человека-персоны, как и для физического организма, стимуляция является существенным условием роста. Реакция на стимуляцию сохраняет целостность до тех пор, пока остается согласованной интегральной реакцией всей личности. Когда реакция становится сегментарной, то есть отделяется от организации личности и не контролируется ею, она стремится стать дезорганизующей или патологической. Именно поэтому стимуляция ради стимуляции, как, например, в неугомонной погоне за наслаждениями, сродни по своей природе пороку.
Мобильность городской жизни со свойственным ей возрастанием числа и интенсивности стимуляций неизбежно сбивает человека с пути и ведет к его деморализации. Ведь существенным элементом общественных нравов и личной нравственности является согласованность – согласованность того типа, какой естествен для социального контроля в первичной группе. Там, где мобильность достигает наивысшего уровня и, следовательно, полностью рушатся первичные механизмы контроля, как, например, в современном городе в зоне запустения, возникают ареалы деморализации, распущенности и порока.
В наших исследованиях города обнаружилось, что ареалы мобильности являются теми самыми районами, где процветают юношеская делинквентность, подростковые банды, преступность, нищета, уходы из семьи, разводы, детская беспризорность, порок.
Эти конкретные ситуации показывают, почему мобильность – вероятно, самый лучший индикатор состояния метаболизма города. Мобильность можно рассматривать как «пульс сообщества», причем не просто в метафорическом смысле. Подобно пульсу человеческого тела, этот процесс является отражением и индикатором всех происходящих в сообществе изменений, и его можно разложить на элементы, поддающиеся количественному выражению.
Элементы, входящие в состав мобильности, можно подразделить на две основные категории: 1) состояние изменчивости человека-персоны и 2) число и тип контактов или стимуляций в его внешней среде. Изменчивость городских популяций изменяется вместе с половозрастным составом, а также со степенью оторванности персоны от семьи и от других групп. Все эти факторы можно выразить количественно. Новые стимуляции, на которые реагирует население, можно измерить через изменение движения или возрастание числа контактов. Статистические данные о движении городского населения могут измерить лишь рутину, но возрастание его со скоростью, превышающей темп роста населения, является измерением мобильности. В 1860 г. в Нью-Йорке трамваи с конной тягой перевезли около 50 млн пассажиров; в 1890 г. трамваи с электрической тягой (и немногочисленные сохранившиеся трамваи с конной тягой) перевезли около 500 млн пассажиров; в 1921 г. надземные, подземные, наземные, электрические и паровозные пригородные транспортные линии перевезли в общей сумме более 2,5 млрд пассажиров[79]. В Чикаго общее годовое число поездок на душу населения (на наземном и надземном транспорте) составляло: в 1890 г. – 164, в 1900 – 215; в 1910 – 320; в 1921 г. – 338. Кроме того, среднедушевое число поездок в год на пригородных железнодорожных линиях (на электрической и паровой тяге) за период с 1916 по 1921 г. почти удвоилось, с 23 до 41. Не следует упускать из виду и возросшее пользование автомобилями[80]. Например, число автомобилей в Иллинойсе за период с 1915 по 1923 г. возросло со 131 140 до 833 920[81].
Мобильность может быть измерена не только этими изменениями движения, но и возрастанием числа контактов. В то время как рост населения в Чикаго в 1912–1922 гг. составил менее 25 % (23,6 %), рост количества писем, доставляемых жителям Чикаго, был вдвое выше (49,6 % – с 639 084 196 до 1038 007 854)[82]. В 1912 г. в Нью-Йорке на 100 жителей приходилось 8,8 телефона, а в 1922 – уже 16,9. В Бостоне в 1912 г. на 100 жителей приходилось 10,1 телефона, а спустя десять лет – уже 19,5. За то же десятилетие для Чикаго эти цифры выросли с 12,3 до 21,6 на 100 человек[83]. Но увеличение пользования телефонами, вероятно, даже важнее, чем рост числа телефонных аппаратов. Количество телефонных звонков в Чикаго возросло с 606 131 928 в 1914 г. до 944 010 586 в 1922 г[84].; рост составил 55,7 %, тогда как население увеличилось только на 13,4 %.
Цены на землю, поскольку они отражают движение, дают один из самых чувствительных показателей мобильности. Самые высокие цены на землю в Чикаго находятся в точке наибольшей мобильности в городе – на углу Стейт- и Мэдисон-стрит, в центральном деловом районе Луп («Большая петля»). Подсчеты транспортников показали, что в период пик через юго-западный угол пересечения этих улиц проходят в час 31 тыс. человек, или 210 тыс. человек за 16 с половиной часов. На протяжении более десяти лет цены на землю в «Большой петле» удерживались на постоянном уровне, но за это же время выросли вдвое, вчетверо и даже в шесть раз в стратегических секторах «спутниковых деловых центров»[85], и это точный показатель происшедших изменений. Проведенные нами исследования показывают, что, по всей видимости, изменения в ценах на землю, особенно там, где они коррелируют с изменениями арендной платы, представляют, пожалуй, лучшую количественную меру мобильности и, стало быть, всех тех изменений, которые происходят в ходе экспансии и роста города.
Я попытался представить в общих чертах ту точку зрения и те методы исследования, которые применяет факультет социологии в своих исследованиях роста города, а именно: описать городскую экспансию в терминах расширения, последовательности и концентрации; определить, как экспансия нарушает метаболизм города, когда дезорганизация берет верх над организацией; и, наконец, определить мобильность и предложить ее как поддающийся точной количественной оценке критерий экспансии и метаболизма, который можно бы было почти буквально рассматривать как пульс сообщества. К слову, этот документ мог бы стать введением к любому из пяти-шести исследовательских проектов, которыми занимается в настоящее время наш факультет[86]. Проект, которым занят непосредственно я, представляет собой попытку применить эти методы исследования к поперечному срезу города. Я пытаюсь поместить эту территорию, так сказать, под микроскоп и изучить более детально, ответственно и точно процессы, описанные здесь в самых общих чертах. С этой целью было выбрано еврейское сообщество на западе города. Это сообщество включает так называемое Гетто, район первого заселения, и Зеленый Дол, или так называемую Германию, район второго заселения. Этот ареал имеет некоторые очевидные преимущества для такого исследования с точки зрения экспансии, метаболизма и мобильности. Он иллюстрирует тенденцию города к радиальному расширению из делового центра. В настоящее время это относительно гомогенная культурная группа. Зеленый Дол – район, пребывающий в потоке непрерывного изменения, куда все еще прибывает волна мигрантов из Гетто и откуда происходит постоянный отток людей в более желанные районы фешенебельных кварталов. Кроме того, в этом ареале можно изучить, как ожидаемому результату высокого уровня мобильности, а именно социальной и личностной дезорганизации, в немалой степени противодействует эффективная общинная организация еврейского сообщества.
Эрнест Уотсон Бёрджесс
Семья как единство взаимодействующих личностей
Эта статья, прочитанная первоначально как доклад на заседании секции семьи Американского социологического общества в Нью-Йорке 29 декабря 1925 г.[87], имеет рамочное значение для исследований семьи, развернутых в чикагской социологии с 1920-х годов в значительной мере под руководством самого Бёрджесса (см., в частности, работы Э.Р. Маурера во втором томе этого сборника). В ней предлагается интеракционное ви́дение семьи и семейных ролей и задаются основные ориентиры для истолкования изменений, происходящих с институтом семьи в современном обществе. Помимо прочего, обсуждение природы семьи выводит Бёрджесса на вопрос о том, в чем состоит реальность социальных образований как таковых.
Перевод сделан по источнику: Burgess E.W. The family as a unity of interacting personalities // The family. – 1926. – Vol. 7, N 1. – P. 3–9. Публикуется впервые.
Девять лет назад я впервые прочитал курс о семье. Уже тогда в этой области накопились горы литературы. Но среди всех этих книг о семье – этнологических, исторических, психологических, этических, социальных, экономических, статистических, радикально реалистических и радикально идеалистических – не нашлось ни одной, которая хотя бы претендовала на изучение современной семьи как поведения или как социального феномена. Ее изучали как правовой институт, но не изучали как предмет естественной науки, то есть (как однажды сказал профессор Парк о газете) так, как биолог изучает колорадского жука[88]. Насколько я знаю, описание большой семейной группы у польских крестьян, сделанное профессором Томасом, было первым исследованием семьи как живого существа, а не как мертвой формы[89].
Ввиду этого отсутствия социально-психологических исследований семьи работа над курсом планировалась исходя из двух принципов. Первый состоял в том, чтобы отобрать из литературы по психиатрии, психологии, социальной психологии и социологии формулировки понятий, которые, по видимости, имели значение для изучения семейной жизни, такие как половой инстинкт, материнское чувство, желание отклика, моногамия как компонент нравов, контроль рождаемости как народный обычай, семейный конфликт, аккомодация и ассимиляция. Второй состоял в том, чтобы собрать из всех возможных источников исследования отдельных случаев семейной жизни. Они брались из работ этнологов, из историй нравов и обычаев, из биографий и автобиографий, из художественной литературы, из драмы, из документов социальных служб, из любого источника, который мог дать реалистические изображения семейной жизни. Вдобавок к этому, мои студенты внесли в этот фонд несколько сотен кейсов, в которых часто с более или менее интимными деталями описывались их собственные семьи.
При чтении этих кейсов, размышлении над ними и попытке как-то их проанализировать начали проявляться некоторые факты, которые под конец кристаллизировались в довольно ясной форме. Первый состоял в том, что, несмотря на несомненно большие различия между отдельными семьями или между семейной жизнью в разных культурных группах, существовал тип семьи вообще. В конечном счете, существенные характеристики семьи оказывались повсюду одними и теми же. Каковы же эти характеристики? Целый корпус семейных чувств, естественно и неизбежно вырастающих из связей между мужем и женой и между родителями и детьми и сохраняющих эти связи. Роль матери, например, мы сразу распознаем как в основе своей одинаковую, несмотря на видимые поверхностные различия в заботе о детях у эскимосов, турок и англичан.
Моим следующим открытием было внезапное понимание колоссальной разницы между современной семьей и семьей прошлого. Многие ли из нас сознают, насколько современным феноменом является небольшая семья, состоящая из отца, матери и детей и эмансипированная от контроля более широкой родственной группы бабушек и дедушек, дядюшек и тетушек, кузин и кузенов? Понимаем ли мы, что она обнаруживается как типичный образец, возможно, только в городах и, особенно, в урбанизированных ареалах наших крупнейших американских городов? Небольшая семейная группа в многоквартирных домах или гостиницах для постоянного проживания – несомненно, самая примечательная иллюстрация действенного отчуждения от требований родства. Отсутствие в городском доме «свободной спальни», этого знаменитого института сельской местности, служит удобной защитой от вторжения родственников.
В то же время семья в современной жизни претерпевает изменения и модификации, которые вряд ли удастся оценить или понять иначе, кроме как в перспективе прошлого или благодаря возможности сравнения с нынешней организацией большой семьи, находящейся в процессе распада, какую мы находим, например, в Китае. Но если большая семья организовывалась в интересах старшего поколения для сопротивления изменению и, тем самым, для увековечивания семейного паттерна, то современная семья подвержена изменению, так как начинается в некотором смысле заново с каждым браком и, следовательно, отдана на откуп новым романтическим представлениям младшего поколения.