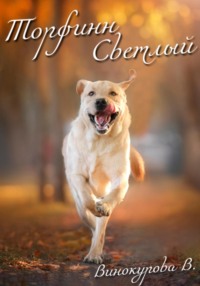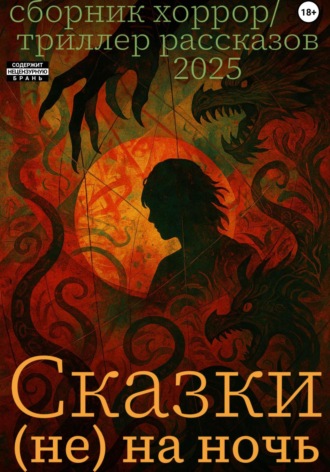
Полная версия
– Нет, – возразил он, – это парк, там чисто. Или ты бомжей боишься?
– Там не бомжи, – Сонька нахмурилась, – там нечистые –заложные покойники.
– Кто?
– Заложные покойники. Самоубийцы или те, кого насильно убили. Они умерли, но думают, что все еще живут тут. Бабушка говорит, что они там живут, словно соседи.
Сонька шмыгнула носом. Она говорила тихо, не глядя на Егора, словно стеснялась или боялась, что их может услышать кто-то еще.
– Бабкины сказки, – Егор чувствовал, как от тихих Сонькиных слов ему становится не по себе. Страх мурашками пробежал по рукам, в животе стало холодно, словно он только что съел брикет мороженного.
– Это не сказки, – упрямо бубнила Сонька, – они бродят по парку и ищут родственную душу. Того, кто похож на них. Потому что им одиноко.
– Это ты в интернете прочитала?
Егор все еще надеялся, что Сонька его разыгрывает и когда он поверит, то засмеётся и скажет, что пошутила. Но Сонька не улыбалась.
– Мне бабушка рассказывала, – тихо сказала Сонька, – когда мама пропала. Бабушка знала, что мама не вернётся, потому что её забрал нечистый.
Раньше Сонька никогда не говорила о своей семье, и Егор, открыв рот, удивлённо смотрел на подругу, не зная, что ответить. В его памяти всплыл строгий голос матери: «Нечего в старый парк ходить, там бомжи. Роют землянки и живут в них. А ещё там женщину убили. Пошла через парк на работу и не вернулась».
– Погоди, – сказал он, поражённый догадкой, – так это твою маму нашли? Тогда, в парке?
Сонька кивнула:
– Она в больнице работала. Медсестрой. Им мужика привезли, еле живого. Он в парке из ружья в себя выстрелил. Мама за них ухаживала, но он всё равно умер. И потом она видела его во сне. Она говорила, что он мерещится ей везде. Бабушка тогда и рассказала про заложных покойников. Что если они выберут кого-то, то обязательно заберут с собой. Она говорила, что если хочешь, чтобы они отстали, нужно прийти с подарком в укромное место, принести, зажечь свечу и ждать. Тогда он сам придет, он будет думать, что ты его в гости пригласил. И нужно подождать когда он подарок заберет. И тогда свечку потушить. Тогда он уйдет один и больше не будет возвращаться. А если раньше свечу задуть, то он разозлиться и тебя с собой заберет.
– Твою маму бомжи убили, – выпалил Егор.
Теперь он злится на Соньку, ему казалось, что она нарочно его пугает.
Сонькино лицо искривилось, губы задрожали, она с шумом втянула носом воздух и зажмурилась, пытаясь сдержать набегающие на глаза слезы.
– А вот и нет, – прошептала она, – ее нечистый забрал. Теперь она там, и меня с собой зовет. Ко мне приходит. Я вижу ее. И боюсь очень. Мне нужно отнести ей подарок, но я не хочу идти одна. А бабушке нельзя такое говорить, у нее сердце слабое. Она все время говорит, что если умрет, то меня в детдом заберут. А я не хочу в детдом.
Сонька отвернулась от Егора и вытерла ладошкой глаза. И Егору стало ее невозможно жалко, так жалко, что он сам чуть не разревелся.
– Слушай, – сказал он, – а давай я с тобой пойду. Вместе отнесем подарок. Что она вдвоем нам сделает?
– Правда? – Сонька обернулась.
Ее глаза, красные и мокрые от слез смотрели на Егора с таким восторгом и восхищением, что Егор смутился.
– А что такого, – нарочито беспечно ответил он, – принесем подарок, зажжем свечку, потушим и все дела. Ничего она тебе не сделает, я же рядом буду.
Сонька взвизгнула от радости, подскочила к Егору и обняла его. Но тут же испугавшись своей радости отпрыгнула, схватила Лизку на руки и закружилась вместе с ней, громко смеясь. Лизка, напуганная внезапным приступом веселья, испуганно залаяла на руках у Соньки и вырвавшись пустилась наутек.
***
Собака давно перестала копать и носилась вдоль забора. Она звонко лаяла на толстого пожилого мужчину с бульдогом на поводке, стоявшего на автобусной остановке, через дорогу от кладбища. Ни толстяк, ни бульдог не обращали на Лизку никакого внимания.
Егор посмотрел вверх. Туман окутывал железные прутья забора, они казались бесконечными, теряясь в вязкой пустоте. Кованые узоры, соединяющие прутья, выглядели устойчивыми. Егор поставил ногу на завиток, схватился рукой за другой и, медленно переставляя ноги по завиткам, полез вверх. Он не собирался оставаться на кладбище. Он упорно двигался вверх. Холодные прутья обжигали кожу рук, ноги скользили, но, сколько бы он ни старался, прутья не кончались.Егору казалось, что он лезет уже несколько часов, но, глянув вниз, он понял, что поднялся совсем немного. Он хорошо видел собаку: та сидела возле заросшего травой неухоженного могильного холма, и, удивлённо задрав голову, следила за ним. Поймав взгляд Егора, Лизка вскочила, встав напротив потемневшего от времени памятника с большой чёрно-белой фотографией и полустёртыми буквами, виляя хвостом, начала лаять. Руки Егора онемели, держаться за прутья становилось труднее. Он глубоко вдохнул, пытаясь уменьшить дрожь,
“Нужно отвлечься,– думал он,– вспомнить что-то хорошее”.
Он смотрел на лающую собаку, желая понять, чего та так радуется. Затем перевел взгляд на памятник до рези в глазах вглядываясь в размытое фото. Свет фар проезжающей фуры лучом прожектора выхватил из утреннего тумана памятник. Детское, немного испуганное лицо, гладко расчесанные на прямой пробор волосы, белая школьная рубашка. С фотографии, неподвижным взглядом на Егора смотрела Сонька. Голова Егора закружилась, он разжал руки и рухнул на землю.
***
В парк, захватив свечку, спички и заколку для волос в виде бабочки, которую Сонька собиралась подарить, они отправились после обеда. Лизка увязалась за ними и конечно, ни Егор ни Сонька не были против. В парке она убежала вперед и Егор то и дело громко свистел, подзывая ее к себе. Раньше они не забирались так далеко и теперь, пробираясь сквозь колючие кусты, где совсем недавно скрылся рыжий хвост, украшенный репейником, Егор громкими звуками подбадривал самого себя.
Кусты закончились. Они вышел на поляну, в центре которой рос высокий, цепляющий ветвями небо дуб. Егор никогда не видел таких огромных деревьев и подумал, что у него не хватит рук обхватить ствол.
– Давай тут, – сказал он Соньке, и та послушно кивнув, достала из кармана спортивных штанов свечу и спички.
Она сделала углубление в земле, воткнула туда свечку и зажгла ее.
– Теперь что? – Егор нервничал.
Ему казалось, что за деревом кто-то прячется и чувствуя на себе чужие взгляды Егор постоянно оглядываясь, вертел головой. Он уже пожалел, что согласился идти с Сонькой.
– Теперь спрячься, – ответила Сонька, – а как она придет я отдам ей подарок и дам тебе знак. Тогда сразу беги сюда и дуй на свечку. Лизку тоже забери, а то бабушка говорила нечистые не любят животных. Только далеко не уходи.
Егор кивнул. Сонька криво улыбнулась и села на корточки возле свечки. Егор, свистнув Лизке, пошел с поляны к парковой дорожке, собираясь там дожидаться Сонькиного знака.
“Ничего не будет, – убеждал он себя, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, – никаких живых покойников не существует. Сонька все выдумала. Она сейчас выбросит заколку и скажет что ее нечистый забрал”.
Егор не знал сколько времени он просидел на лавочке, бормоча как заклинание: ”призраков не существует”, но когда он услышал приглушенный Сонький свист ему показалось, что прошла вечность. Он вскочил с лавочки, крикнув:
– Ко мне, Лизка! – Бросился на поляну.
Сидя на земле, прислонившись к дереву, неподвижным взглядом на него смотрела Сонька. Губы её дрожали, словно она собиралась заплакать, в спутанных волосах застряла сухой березовый листок, а на белой футболке отчетливо виднелись отпечатки пыльных собачьих лап. Из-за спины Егора выскочила Лизка. Оскалив зубы, вздыбив шерсть на холке, она злобно залаяла. Егор шагнул вперёд. Он хотел схватить Соньку, встряхнуть, помочь встать, выдернуть её из немого плена.
– Сонька – шептал он, – Сонька, вставай.
Сонька, бессмысленно глядя на Егора, скривилась. Она открыла рот, пытаясь что-то сказать, но лишь всхлипнула. Черная, похожая на тень фигура отделилась от дерева. Женщина: худая, высокая, в длинном, скрывающем фигуру плаще. Её лицо – бледное, с неподвижными водянисто-голубыми глазами и резко очерченными скулами не выражало ни удивления, ни испуга. Стояла ли она все время за деревом или пришла позже, привлечённая лаем собаки, Егор не понял, но казалось, она знала, что Егор и Сонька обязательно придут на эту поляну и ждала их.
Женщина протянула к Егору руку, сделала шаг. Пальцы невероятно длинные и тонкие тянулись к его шее. Дрожа всем телом, скаля зубы, Лизка встала между Егором и женщиной, не давая той приблизиться. Зарычав, собака сделала выпад, схватила зубами край плаща. Ткань с треском разорвалась. Женщина резко нагнулась, схватила собаку за горло, подняла над землей. Длинные белые пальцы с легкостью вошли в собачью шею. Лизка визжала, извивалась, пытаясь вырваться. Соня очнулась, раскачиваясь, цепляясь за дерево руками, встала. Губы её шевелились и Егору казалось, что она беззвучно шепчет: «ма-ма». Оцепенев от ужаса, Егор застыл на месте. Время остановилось. Егор смотрел то на Соньку, то как дрожит пламя свечи, уменьшаясь и становясь почти невидимым, а затем снова разгораясь с новой силой. Женщина разжала пальцы. Лизка с гулким стуком упала на землю. Дико взвизгнула и умолкла. Женщина шагнула к Соньке, та протянула ладонь, на которой лежала большая фиолетовая заколка в виде бабочки. Женщина взяла заколку, любуясь, поднесла к глазам. Сонька смотрела на Егора умоляющим взглядом.
– Свечка, – шептала она – свечка.
Но Егор, пригвождённый к земле страхом, стоял на месте. Он знал, что должен потушить свечу, но страх огромным ластиком стер все мысли и чувства, кроме дикого животного ужаса. Женщина убрала заколку и снова протянула руку к Соньке и та покорно вложила свою ладонь в белые длинные пальцы. Не проронив ни слова, женщина двинулась в глубь парка, уводя за собой Соньку. Та не сопротивлялась, но всё время оглядывалась беззвучно шевеля губами. И хотя Егор не слышал ни звука, он знал что она шепчет.
Когда женщина и Сонька скрылись за деревьями, Егор, не глянув на Лизку, кинулся бежать. Дома Егор, не раздеваясь, рухнул на кровать.
«Нужно пойти к маме рассказать ей всё про Соньку, Лизку, женщину, нужно позвать на помощь, – думал он, – может, она не успела увести далеко Соньку».
От этих мыслей у него разболелась голова. Он слышал, как с дежурства пришла мама, и, стараясь не разбудить его, прошла на кухню.
«Нужно рассказать все, нужно рассказать», – стучало в висках.
Но чем больше Егор думал, тем страшней ему становилось. Промаявшись до утра, он заснул.
Проснулся поздно, долго лежал в кровати, прислушиваясь к звукам на кухне: мама готовила завтрак. Егор с трудом заставил себя встать, выйти в коридор. Телефонный звонок прозвучал, как выстрел. Мама, улыбнувшись, прошла мимо Егора и взяла трубку. Через секунду улыбка на её лице исчезла. Уголки губ дрогнули, выражение лица стало растерянным.
– Что? – спросила она, – Егор дома. Кого нашли? Где?
Она ещё немного послушала невидимого собеседника, потом положила трубку и, медленно подбирая слова, не глядя Егору в глаза, сказала:
– Егорушка, там девочку нашли. В парке. Соню. Она… её…
Мама растерянно опустилась на кушетку в прихожей, закрыла лицо руками. Егор сел рядом. Сердце бешено колотилось, щёки горели. Мама говорила что-то ещё, но он не слышал. Ему казалось, что в груди взорвалась новогодняя хлопушка, оглушив и ослепив, выжгла в душе огромную дыру. Он не чувствовал ничего: ни боли, ни страха, ни горечи потери. Только бесконечную пустоту и облегчение: теперь ему не нужно ничего рассказывать.
В тот день он заставил себя напрочь забыть про Лизку, женщину, Соньку. Забыть и больше никогда не вспоминал о случившемся. До сегодняшнего дня.
***
Егор, не моргая, смотрел на памятник. Фотография изменилась. Теперь Сонька была именно такой, какой её помнил Егор – одиннадцатилетней девочкой в грязной футболке и старых спортивных штанах, растянутых на коленках. Он замотал головой, желая прогнать видение.
Мужская фигура, тёмная, сливающаяся с гранитной плитой шагнула из-за памятника. Высокий мужчина, глядя на Егора, поднял руку. Его пальцы приветственно сложились в латинскую V. Парень, тот самый «прыгун», что просил принести тапки, медленно шёл в его сторону, протягивая Егору руку. Егор вскочил, попятился, прижался к забору. Бежать было некуда.
И как двадцать лет назад верная Лизка, кинулась на помощь. Но теперь это была не Лизка: череп с тёмными провалами глаз, остатки разлагающейся плоти, покрытые редкими островками грязной шерсти, белый остов позвоночника, прорвавшийся сквозь сгнившую кожу и полукруг обнаженных рёбер. Разложившийся собачий труп не давал другому мертвецу приблизиться. Егор вжался в забор, надеясь спрятаться, просочиться сквозь прутья. Толстый амбарный замок больно упёрся в спину. Лизка рычала. И глядя, как поднимаются в ярости её бока, сквозь потрескавшуюся, облезшую шкуру, Егор разглядел между рёбер прицепленное к одному из позвонков хребта блестящее серебристое колечко. На нём висел ключ.
Корчась от отвращения, он схватил Лизку за ошейник, притянул к себе и попытался засунуть руку под рёбра собаки. Та завизжала, словно Егор причинил ей боль. Егор отдёрнул руку.
«Она мёртвая, – убеждал он себя. – Она не может ничего чувствовать. А я живой. Мне нужно уйти отсюда».
Мертвец приближался.
– Пришёл, – шептал парень, – я знал, я чувствовал, я ждал. Сосед, мой, соседушка. Родственная душа.
Егор оглянулся. Не знал, чем защитить себя, судорожно пошарил в карманах. Ничего не найдя, начал бессмысленно трясти замок, желая его сломать. Лизка лаяла, прыгая на месте и ключ звенел в её животе в такт прыжкам. Выбора не было. Егор со всего размаха пнул охранявшую его Лизу. Собака завизжала, отпрыгнула в сторону, вжалась в ограду, а Егор продолжал пинать её, стараясь попасть по рёбрам, чтобы вытащить зацепившийся за них ключ. Лизка упала, Егор наклонился, шаря между сломанными костями, нащупал металлический остов и с силой рванул. Запах сгнившего мяса ударил в нос. Лизка взвыла от отчаяния и боли. И за этими протяжным, рвущим душу плачем Егор не услышал приближающихся шагов.
Холодные тонкие пальцы сомкнулись на шее, проникая под кожу. Егор, дёрнулся, пытаясь вырваться, пальцы мертвеца сжались сильнее, ломая подъязычную кость. Последнее, что мелькнуло в затухающем сознании Егора: водянисто-голубые глаза парня и его бесшумно шевелящиеся губы.
***
Егор лежал в темноте, а кто-то рядом дул на него горячим воздухом и тёр щёку мокрой шершавой губкой.
«Лизка, – думал Егор, – собачка моя, Лизка».
Чувство раскаяния и стыда сжигало изнутри: он снова убил её, отдал на растерзание монстру, только теперь монстром был он сам.
Егор открыл глаза. Рядом с ним, виляя остатками хвоста, стояла Лизка. Егор потянулся, чтобы погладить собаку, почувствовал в руке холодную гладь металла: пальцы сжимали ключ.
Он встал, испуганно огляделся. На земле, у могилы с потемневшей от времени фотографией Соньки сидел мертвец со скрюченными пальцами.
– Теперь хорошо, – приговаривал он, разглядывая ноги, обутые в белые тряпочные тапки, – теперь тепло. Я знал, что ты придёшь. Верил. Я сразу понял, что ты такой же как я, мертвый. Внутри мертвый, хоть и живой.
Свеча валялась на земле, слабый, едва заметный огонек дрожал, плавя восковые бока. Егор до боли сжал кулаки, ногти впились в ладони, он неуверенно шагнул в сторону ворот. Никто больше не пытался его остановить или удержать. Он был свободен. Егор подошёл к воротам, вставил ключ в замок, повернул три раза. Щёлкнув, замок открылся. Егор распахнул створки. Но теперь он не хотел никуда идти, только ядовитое, чувство тоски разъедало грудь. Чувство вины, навсегда поселившееся в его сердце после смерти Соньки, которое он заставил себя забыть, а потом во взрослой жизни заглушал все воспоминания алкоголем и случайными связями вырвалось наружу. Чувство вины, заставляющее его рвать любые привязанности превратило его в живого мертвеца и Егор больше не мог этого вынести. И теперь он знал, что ему нужно делать.
***
Туман рассеивался, по дороге двигались редкие автомобили, подсвечивая дорогу фарами. К остановке подъехал рейсовый автобус. Толстяк, с трудом нагнувшись, взял бульдога на руки, подождал пока выйдут люди и кряхтя забрался внутрь. Пассажиры автобуса – женщины с заплаканными глазами, мужчина в тёмных очках, двое детей, гладко причёсанных, одетых в одинаковые чёрные курточки, двигались к воротам. Тихо разговаривая, люди прошли мимо, не замечая ни Егора, ни Лизки, ни парня со скрюченными пальцами. Егор внимательно следил каждым из них. Лицо пожилой женщины выражало скорбь, молодой – скуку, мужчины – усталость, а на лицах детей застыло неподдельное любопытство.
Егор близоруко прищурившись, втягивал носом воздух, пытался разглядеть каждого, желая среди толпы найти того, кто поможет ему, спасёт, разделит бесконечное одиночество.
– Соседи пришли, – шептал Егор, – вот и славно. Сейчас сядем, чайку попьём. Подарки будем дарить. Свет только зажгите. Соседи. А то мне вас не видно.
Паводок
Лина Гончарова
Она утопилась.
Семь дней и ночей она вынашивала эту мысль, тоскливо глядя в окно, не смыкая глаз. От дома до реки было рукой подать, не дольше пяти минут, и тёмные воды манили.
Её поразило заклятие пустоты, обернувшееся вокруг неё огромной змеёй, всё сильнее сжимающей свои кольца, до невозможности сделать вдох. Темнота застила ей глаза, не пропуская ни лучика света. Руки озябли, неспособные больше подняться.
В ней совсем не было смысла, не больше, чем в камне. Нелюбовь была её постоянной спутницей, от рождения к первой привязанности и после до мужчины, с которым она сочеталась браком. Напрасно.
Родительский дом был ей тюрьмой, мужний дом – погребом, и она, лишённая чувств и достоинства, не знала, зачем ей вообще существовать.
Она пыталась быть всем полезной, но чем больше старалась, тем больше получала пощечин. Недостаточно дочь, недостаточно жена, недостаточно женщина, не умница, не красавица. Никто.
Смирившись, казалось бы, с таким своим естеством, она приняла единственное решение, которое способна была сама совершить в своей жизни – с этой жизнью расстаться.
На седьмую ночь она впервые вдохнула свободно.
У неё за душой не было ни гроша, последние истлевшие туфли, последнее платье, перештопанное многократно. Она была будто бы всем обязана, но при этом никому не нужна.
Она встала с постели супруга, незаметно юркнула в сени, пробежала сквозь двор, не потревожив собаку, и неслышно прикрыла калитку, оказавшись на улице.
Луна блистала так ярко, что не было нужды в фонарях, дорогу и так освещало как днём.
Она прошла вдоль соседских ворот, закоулками и задворками, покинула границу посёлка и козьей тропой через овраг и пригорок спустилась к самому берегу.
Река гудела, увлекая первые опавшие листья, скоро унося их прочь в темноту. Другой берег терялся в ночи, сливаясь с чёрной водой, и казался вовсе не достижимым.
Она выбрала самый большой и тяжёлый камень из тех, что способна была утянуть. Обвязала его припасённой верёвкой, другим концом обернув свою щиколотку. Так будет вернее, так точно не выберется.
Вздохнула. Река должна была принять её, хоть что-то в этом огромном мире должно же было ей ответить взаимностью.
Шагнула.
Вода омыла голые ступни колким холодом, неожиданным и больно уж злым, как обожгла.
Она стиснула зубы, не отказываясь от намеченной цели.
Шаг, второй, вода захлестнула её по колено, по бёдра, сковала ледяными волнами ноги, свела судорогой. Она шла.
Течение начинало сносить её в сторону, слишком сильное, слишком настырное, но камень в руках ещё помогал его сдерживать.
Вода дошла ей до груди, и в этот момент, оступившись, она дала возможность течению утащить её прочь.
Не прошло и минуты, как её смыло к середине реки, и камень потянул вниз. Поток уносил её прочь, камень – на дно, вода заливалась в лёгкие, и дышать стало нечем.
Она ещё видела лунный свет сквозь толщу воды и последние пузырьки, уносящие её дыхание на поверхность.
Но недолго.
Так и застыла, прикованная ко дну, не сводя глаз с мерцающей далёкой луны, едва видимой снизу.
Она открыла глаза.
Вода по-прежнему окружала мутным зелёным маревом, а сквозь толщу её мерцала уже не луна, но яркое солнце.
Она дёрнулась вверх, не понимая, что с ней творится, но камень, приковавший ко дну, даже не двинулся.
Неужто и река отказалась дать ей свободу, откуда такая несправедливость?
Она опустилась вниз, разводя руками колокол некогда белой сорочки, вцепилась в узел на тонкой ноге, разбухший от влаги и опутанный водорослью, кое-как его растянула, лишь бы пятка вывернулась из петли, и наконец освободилась.
Рыбкой скользнула вверх, сама того не заметив, вынырнула на поверхность. И тут же, зашипев, скрылась в воде – солнечный свет будто ошпарил, едва она ему показалась.
С ней что-то случилось, выжить она не могла, не должна была дышать под водой, не должна была обжигаться на солнце. Но дышала, но обжигалась. Как будто бы выжила.
Солнце стало врагом, это она поняла с первого раза. Но оставаться под водой казалось ей дикой идеей, непривычной, неправильной. Осмотревшись, уловив речное течение, она наугад направилась к берегу. Где-то найдётся тень, обрыв или дерево, хотя бы что-то, что скроет от палящего солнца.
Ей пришлось долго грести, прежде чем вдалеке замаячило тёмное пятнышко, обернувшееся ивовой заводью. Тонкие ветки гнулись, опускаясь к самой воде, будто девы омывали свои длинные волосы.
Там, в самой тени у берега, она чуть поднялась из воды, для начала лишь кончиком пальца, чтобы проверить догадку, а после вынырнув по самые плечи.
В тени ей ничего не грозило. Она выбралась на краешек изумрудной мшистой подушки, скрутила свои длинные волосы, отжимая излишнюю воду, и только теперь заметила, как изменилась.
Её кожа потеряла свой цвет, став тленно-зелёной, натянулась на хрупких костях, будто все мышцы истаяли. Золотистые локоны поседели, запутались прибрежной тиной, а ногти отросли до того, что стали казаться когтями. Растерянно выпустив из рук волосы, она случайно коснулась собственной шеи и вздрогнула.
С обеих сторон от горла расходились порезы, ровные вскрытые раны, при том не саднящие, безболезненные. Откуда им было взяться, она не понимала, прикосновение не вызывало страданий, но казалось, будто они все разом чуть раскрываются и сжимаются вновь.
Она могла бы похолодеть от ужаса осознания, кем она стала, но уже была холодна как вода. Необычайная тишина внутри подтвердила – её сердце не билось.
И тут она впервые ощутила голод. Не человеческий, не простой обыденный голод, который утолил бы кусок хлеба и глоток молока, нет. Жуткий, звериный, требующий плоти и крови, горячей, живой и солёной.
Её нюх донельзя обострился, распознавая все оттенки воды и травы, ивовой коры и стеблей камыша, тончайшей паутины меж веток, радужных крыльев гудящей над водой стрекозы. И крови, струящейся в чьих-то упругих венах.
Она чуяла запах, не различая пока, кто бы это мог быть, зверь или человек, привстала было, собираясь пойти и проверить. И не смогла.
Река тянула её обратно, не отпуская. Требовала вернуться, выворачивая руки, сводя колени, складывая её в три погибели. Она поняла теперь, кем обратилась.
Русалкой.
Шло время. Долгий день она пережидала в тени плакучих ив, ставших ей новым домом. Ловила нерасторопных лягушек, но не могла ими одними насытиться. В ночи она позволяла себе покинуть невольный приют и прогуляться вдоль берега, не отходя от кромки воды. Там ей иногда встречались более крупные звери, приходившие на водопой, и тотчас же жертвующие ей свою жизнь. Утолить её голод было непросто.
Но однажды ей повезло встретить то, чего она так отчаянно жаждала.
Ближе к полуночи незадачливые подростки, едва повзрослевший юнец и румяная девица, выбрались на берег реки, не обнаружив лучшего места для любовных утех. Кровь бурлила, наполняя их жаром, и тем сильнее голод гнал к ним русалку.
Но с двумя она бы не справилась. Одержимая жаждой, она ещё до конца не понимала, как одолеть человека, никакой живности крупнее енота ей ещё не попадалось.
Тут помогли останки её человеческой памяти. Мужчины слабы. Мужчину сманить не стоит труда.
Она скинула истрёпанную сорочку и соскользнула в тёмные волны. Незамеченной подплыла к юнцам, увлечённым друг другом, и медленно, будто речная царица поднялась из воды, обведённая лунным светом.
Любовники отпрянули друг от друга как пугливые зайцы. Девица ахнула, завидев блестящие слюдяные глаза русалки, тотчас же вскочила и бросилась прочь, позабыв об утерянных в любовном порыве туфлях. Юноша застыл, зачарованный русалочьей наготой.