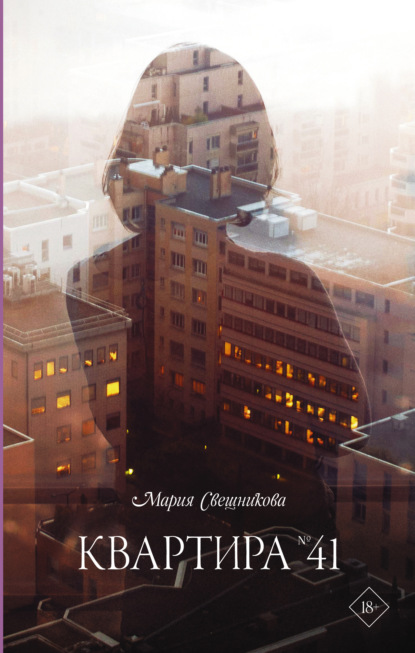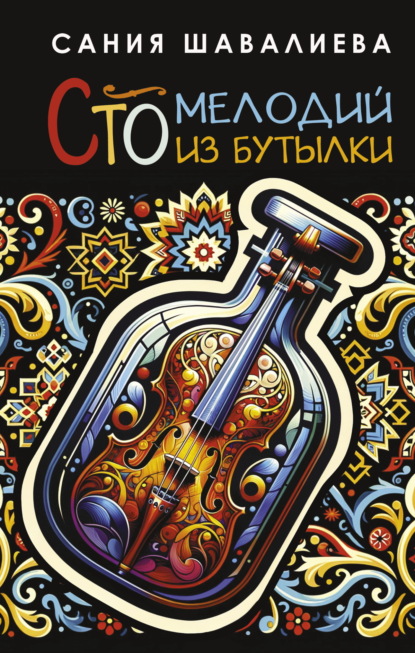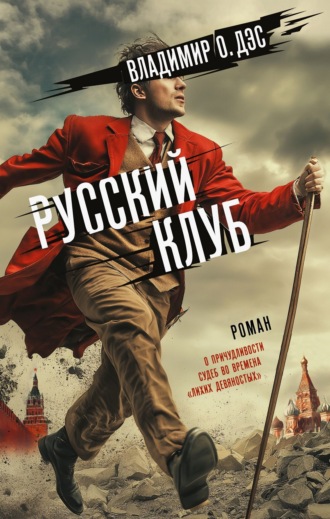
Полная версия
Русский клуб
– Пошто играл на дудке? – спросил государь.
– Красиво, – через силу выдавил слуга.
– Красиво? – переспросил государь, удивлённо вскинул грозные брови и, медленно повернув голову, посмотрел на восход, набирающий силу. – Да-а, красиво… – протянул медленно и добавил, уже глядя в упор на писаря с дудкой в руках: – Быть здесь монастырю. – И царь ткнул посохом в болотину. – Ты строить будешь.
Он и строил.
Как-то на второй год бывший писарь, с охоты едучи, завернул к роднику. Слез с коня и не спеша шёл, огибая низкие ветки молодых дубков. Родничок был небольшой, но чистый, свежий. Он наклонился и стал, пофыркивая, пить вместе с конём. И вдруг заметил, что уши у коня насторожились и пошли вправо: кто-то был рядом. Лук остался на седле, однако нож – на поясе. Осторожно, из-под конской морды, осмотрел ближайшие кусты и наткнулся взглядом на голубые, как васильки, глаза. За кустами сидела, замерев от страха, девка.
Так вот он познакомился с Варей.
И закрутило, завело их, молодых, по рассветам да стожкам.
Была Варя как свежая тёплая белая булочка; небольшого росточка, в сарафанчике под упругие, как спелая антоновка, грудки, добрая, ласковая, нежная, смешливая.
Писарь и загулял. И подзабыл, зачем он тут, по чьей воле и с каким наказом. Церковь успели закончить, а вот ямы под угловые башни монастырской стены только начали, но – без присмотра – миловские строители бросили работы и занялись своими делами.
Зато недруги не дремали и доложили царю, что стройка встала. А писарь будто и не замечал ничего. Всё ходил целыми сутками пьяный без вина.
Однажды, утомлённый Варей, спал у себя в избе, и на него накинулись царские люди, и вот – он уже под кнутом.
В воздухе свистнуло.
Тягуче, быстро, хлёстко.
Спину от поясницы к шее обожгло.
Как писарь ни ждал этого удара кнутом, как ни готовился, боль была такой пронзительной, что его выгнуло коромыслом и в глазах заломило, как от вспышки яркого света, но не крикнул, не забился в припадке. Сжал до хруста зубы и ещё плотнее прижался к шершавой лавке, на которой его распластали.
Опять свист.
На этот раз кнут задел ухо и рассёк его пополам. Он подкинул голову и тут же с размаха, гулко ударился лицом о лавку. Писарь знал эти кнуты. Сам не раз плёл такие из сырой бычьей кожи, порезанной на длинные тонкие ремни.
Опять свист.
И опять – удар с оттяжкой, на этот раз поперёк туловища. Показалось, что тело перерубили пополам. Так глубоко врезался тонкий конец кнута. Он снова выгнулся в дугу, снова гулко ударился о лавку.
Но не крикнул. Только выплюнул разгрызенные свои зубы.
После четвёртого удара он затих.
На пятом даже не вздрогнул.
Лавка под ним стала скользкой от крови. Он сполз на правую сторону, его пинками вернули на место. Кнутобоец поднял за волосы, посмотрел и заключил:
– Пока хватит.
И палачи вышли из избы.
Мухи роем облепили его, потного, мокрого, окровавленного. Тело уже начало подсыхать со спины, и тут снова вошли его мучители.
Сытые с обеда. Весёлые от бражки.
Перекрестились на образа в углу и начали допрос. Куда да сколько? Где деньги царёвы? Почему стены монастырские до сих пор не стоят?
Он молчал. Не оттого, что не хотел отвечать, а потому, что боялся открыть рот: если разомкнёт крепко сжатые губы, то пытки не выдержит – кричать будет. А допытчики от этого распалялись всё сильнее и сильнее. Зверели.
Вот пошёл двенадцатый удар.
Спина была уже без кожи – белели рёбра. Ударов он больше не чувствовал. Тело содрогалось, но существовало как бы отдельно от сознания. Писарь лежал на лавке, оцепенев от боли.
И вдруг перед глазами стало светлеть. Показалось, будто над ним склонилась Варя, капая слёзками на его сухие губы.
Он разжал губы и прошептал:
– Варенька, милая… я умираю… Прощай, любимая.
Варя уплыла куда-то, и в лицо ему плеснули холодной водой.
Он увидел бороду с крошками сдобы в ней, потом ухо.
Борода покачалась из стороны в сторону и заключила:
– Что-то бормочет, а не поймёшь. Наверное, всё, кончается. Огрей-ка ещё разок, пока не помер.
И в воздухе опять свистнуло.
Мокрый от крови кнут последний раз хлюпнул в его теле и затих, свернувшись в клубок на прохладном земляном полу. Бесчувственное тело спихнули с лавки и за ноги выбросили за порог.
Через три избы в руках людей билась Варя.
Но её не выпустили.
А шесть месяцев спустя она родила сына, далёкого предка Глеба по линии бабушки Анны.
После смерти жены дед Яков жил один, сам за собой ухаживал, сам себе готовил, но с годами стал слабеть.
А когда его собака умерла, он, почувствовав, что и его путь на земле заканчивается, решил покинуть село.
Яков раздал соседям посуду, скотину, ульи и остальной скарб. Заколотил окна в избе, поклонился родным могилам. Односельчанам же сказал, что на «мир» не в обиде, а уходит по старости своей поближе к Богу, в Печёрский монастырь. Хороший пчеловод везде нужен.
Но похоронить себя просил в Миловке.
Уходил дед Яков из Миловки, опираясь на посох и с лёгкой котомкой за плечами. Провожали всем селом. На прощание, зная его мудрость, многие спрашивали: что их ждёт впереди?
Дед отвечал:
– Скоро страну захватит «Меченый», и она развалится. Наступит смута большая. К власти придут предатели. Народ страдать будет от несправедливости и мерзости. Одни будут в золоте, а другие в голоде. Но как только к власти придёт «Солдат», Русь опять возродится, как птица Феникс. Станет ещё сильнее и ещё богаче. Со всех концов света потекут реки людские на Русь спасать свои души. Народ российский сплотится, и наступит на земле русской время счастья, справедливости и милосердия. Руководить страной станут те, кто рисковал своей жизнью, защищая её.
Все слушали, охали, но деду верили. Хотя не понимали, кто этот «Меченый» и кто «Солдат»
В деревне только и разговоров было, что о предсказании деда Якова о будущем страны. И когда к власти пришёл Михаил Сергеевич Горбачёв с родимым пятном на голове, все ахнули: «Вот он, “Меченый”, о котором предсказывал дед Яков! Скоро беда придёт!»
Поговаривали и о мифическом золоте князя Хованского, часть которого, по слухам, Яков где-то у себя хранил.
Лихие люди, понимая, что дед ушёл налегке, перерыли весь его сад и перебрали по брёвнышку его дом, но клад так и не нашли. С этим и успокоились.
Глеб часто приезжал к деду в монастырь.
Дед Яков считал, что настоящая жизнь – это жизнь в монастыре. Только здесь приходит понимание, что путь у всех один: от Бога до Бога, а остальное – суета и ничего больше.
По началу жизни в монастыре Яков ещё был крепок и решил выкопать там колодец. Глебу была интересна эта идея, и он напросился в помощники.
Началось всё с поиска места.
Дед, взяв в руки по веточке липы, стал тщательно обходить территорию монастыря. Ходил долго, наконец веточки пересеклись, он опустился на колени, перекрестился, сотворил поклон и сказал:
– Копать будем здесь.
С утра им в помощники определили монаха. Они напилили метровых брёвен и очистили их от коры. Глеб с монахом стали копать яму под колодец, а дед, вооружившись топором, сооружал первый колодезный сруб.
Откопали с метр, поставили в яму этот сруб, собранный дедом. Тот вписался как родной.
Глеб с монахом по очереди стали копать дальше, а дед – собирать второй сруб. Они поставили его на первый, надавили – и первый сруб опустился ниже. Потом третий, четвёртый… А на пятом Глеб почувствовал под ногами жижу.
После шестого сруба дед сказал: «Хорош».
Глеб вылез, и они втроём присыпали наружные стены колодца глиной и утрамбовали землю.
– Теперь пусть постоит, – сказал дед Яков.
Глеб через неделю приехал в монастырь, там всё было готово к освящению колодца главным пастырем области владыкой Николаем. Был сооружён навес с лавочкой и прикреплён ворот с цепью и ведром.
Так в Печёрском монастыре появился «Яков-колодец».
С тех пор Глеб любил посиживать около него и слушать деда Якова. А рассказывал он много интересного:
– В молодости я объездил почти всю нашу огромную страну, но самое интересное путешествие, от которого не устанешь, – это путешествие в себя, если твой внутренний мир так же богат, как и внешний. И вот пришёл я в Печёрский монастырь и наткнулся на келью монаха-затворника, из которой двадцать лет он не выходил. Только захотел пожалеть этого монаха, как почувствовал, что на меня от этого «затвора» веет таким счастьем, спокойствием и благополучием, что я замер. Как же так?
И в этот момент на лице деда, который, казалось, в жизни видел всё, возникло удивление, и он, просветлённый неожиданно возникшей высшей идеей, радостно продолжил:
– Вот мы суетимся, счастье ищем, ощущений добиваемся, а оказывается, самые сильные ощущения и впечатления – внутри себя, в себе: надо только прислушаться к своей душе. Душа, а не тело – главный накопитель красоты в жизни. Самое прекрасное путешествие – это путешествие в свою душу. Закрыться, запереться и побродить по закоулкам своей души. Если душа твоя светлая, богатая и многообразная, то и путешествие будет интересное и долгое. И вспомнится много, и передумается о многом. И не скучно будет, а наступят покой и ощущение вечности. Так и ты, внучек, если устанешь от жизненной суеты, попробуй заглянуть внутрь себя. Зачастую человек живёт, не зная свой внутренний мир, не поняв себя и своих возможностей.
Глеб пообещал деду Якову, что обязательно воспользуется его советом, но потом, в будущем, а сейчас некогда лазить по своей душе, надо действовать: началась перестройка.
Дед слушал, кивал головой и говорил:
– Да, наступило новое время. Ваше время. Время молодых и дерзких. Кто-то в эти дни потеряет всё. Кто-то получит всё. Богатые станут бедными. Бедные – богатыми. Кто-то упадёт. Кто-то взлетит. Один род неожиданно поднимется, другой опустится. Атеисты станут верующими. Болтуны станут пророками. Каждый покажет свою настоящую сущность, своё истинное лицо. Пробуй себя, не бойся. Дорогу осилит идущий. Только тот, кто слабее, по ней мечется, как таракан в щели, а другой, сильнее духом, идёт прямо. Так и ты должен идти вперёд, а если возникнет проблема, делай шаг ей навстречу, а не назад или в сторону. Знай, что опасность надо преодолевать, а не бежать от неё… Не оставляй в своей жизни нерешённых вопросов. Если оставишь – они к тебе вернутся. Перестройка – это испытание, а испытание – это путь. Через него ты поймёшь истину и обретёшь покой.
– Ты многого в жизни добьёшься, если не скатишься в сторону, – ещё говорил он Глебу.
– Это как: «скатишься в сторону»? – не понимал Глеб.
– Это так, что Господь тебе по твоим способностям уже определил дорогу, по которой ты должен пройти в своей жизни, но дьявол соблазнами может тебя сбить с пути. Поддашься ему – и покатишься непонятно куда и зачем. Но, я думаю, с тобой этого не произойдёт. Ты парень правильный. А чтобы тебе легче было идти, я дам тебе свой посох. Он тебя поддержит в трудную минуту.
Глеб тогда удивился: зачем ему дедов посох, какой от него прок?
Дед же почувствовал это и добавил:
– Прок будет. Как определишься со своим местом в новом времени, тогда посох тебе и поможет.
«Сказки какие-то стал дед рассказывать», – подумал Глеб, но ничего не сказал деду, не хотел его обижать. Принял этот подарок за старческую причуду, а приехав домой, внимательно рассмотрел посох.
Он был тяжёлый, тёмно-серого цвета, вверху удобно вырезан под кисть руки. Заканчивался посох вкрученной в него металлической нашлёпкой. Чувствовалось, что он изготовлен давно, но им мало пользовались.
Что с ним делать, Глеб не знал и убрал посох под кровать, куда с детства складывал все свои ценные вещи.
В последнюю встречу дед Яков сильно кашлял.
– Да, видно, недолго осталось мне жить, – прокомментировал он сочувствующие взгляды и вздохи Глеба.
– Ну что ты, деда, – пытался возразить ему Глеб, – ты же не пророк.
– Конечно, не пророк, я всего лишь посредник и говорю то, что передаёт мне Господь – это Его откровения.
Глеба тогда поразили эти слова деда, и он, смущённый, свернул общение, заторопился и, наскоро простившись с ним, уехал. Но вскорости и это предсказание сбылось. Через две недели дед Яков умер.
Похоронили его, как он и просил, на кладбище в Миловке.
Глебу вовремя не сообщили о его смерти. И он приехал в Миловку на похороны прямо к кресту. Удивился, прочитав на табличке, что дед умер на девяносто шестом году жизни. Никогда бы он не подумал, что тот был в таком возрасте.
Он помнил, как в детстве с дедом Яковом приходил на деревенское кладбище. Тот говорил:
– Внучек, будет тебе тяжело, приезжай сюда, к родным могилам, сиди и рассказывай о своих бедах.
Глебу непросто было понять это. С малых лет он боялся смерти и всего, что было с ней связано.
В Нижнеокске, пока жил в Холодном переулке у тёти Вали, его крёстной, или «коки», как он говорил в детстве, Глеб часто ходил к Мытному рынку. Путь его лежал по улице Дзержинского, мимо старинного серого здания с большими витражными окнами. Глеба пугало это здание. В нём находился магазин с мрачным названием «Ритуальные услуги». По бокам у его входа висели чёрные траурные вывески: справа – «Гробы», а слева – «Венки».
Для него, пацана, в этом мире, полном неожиданностей и приключений, смерть была самой пугающей тайной. И хотя он боялся и чертей, и Бабы-яги, жившей в дедовом малиннике, но самым ужасным местом для него было кладбище, где неподвижно лежат в земле, в холоде мёртвые люди.
Глеб спрашивал: «Деда, и я умру?» – тот отвечал, что дети бессмертны.
– Почему?
– Потому что вы безгрешные. Грехи детей, пока они не выросли, – грехи их родителей.
Это успокаивало Глеба. И он уже спокойнее шёл с дедом на кладбище.
Дубовые кресты их рода стояли отдельно, у самого входа.
Яков вставал на колени пред крестами и начинал молиться, то и дело кладя поклоны. Глеб тоже опускался на колени рядом, чуть сзади, и всё повторял за ним: и слова, и поклоны. Затем они подходили к каждой могиле, и дед называл усопших по имени-отчеству и каждому желал «царства небесного».
Если ты помнишь своих предков, значит, они прожили жизнь не зря. И вот теперь сам дед Яков покоился под холмиком с крестом.
Во время поминального обеда, устроенного односельчанами, Глеб увидел Иду Повзрослела. Похорошела. Он узнал, что теперь она живёт и работает в Нижнеокске.
Но поговорить им так и не удалось. К нему то и дело подходили знакомые и незнакомые люди, заводили двусмысленные разговоры. После слов сочувствия они выпытывали, богато ли живёт Глеб, есть ли у него машина, дача, как поживают родители?
Глеб не таясь рассказывал, что его родители давно уехали на Колыму и там завербовались на рыбный комбинат острова Недоразумения, отец – ловить рыбу, а мать – фасовать её. А Глеба отправили жить к крёстной в Холодный переулок. Там, прямо за углом её дома, была школа № 14, знаменитая своими учителями и подходом к обучению.
Эту школу окончило большое количество выдающихся людей. «Кока» Валя очень хотела, чтобы крестник учился в ней и стал большим человеком.
Говорил, что потом с Колымы пришла похоронка на отца, а следом и на маму Там, на острове, их и похоронили. «Кока» Валя, так как у неё наметились изменения в семейной жизни, переехала жить в родительскую квартиру, а он остался жить в Холодном переулке.
После таких новостей любопытные люди исчезали с поминок.
Глеб понимал, что все эти подходы и тонкие разговоры связаны с легендарным золотым кладом князей Хованских.
После похорон Глеб приехал домой в Нижнеокск и первым делом достал дедов посох из-под кровати. Повертел его в руках. Старый, дубовый, в странных узорах. А так – палка как палка, только тяжёлая. И забросил обратно. Некогда было на посох смотреть и философствовать.
В стране наступала демократия, зарождались гласность и предпринимательство.
Глава 2. Перестройка
Часть 1. Первые шаги
История человечества – это история поступков людей, а поступки людей напрямую связаны с историей города, страны и всей нашей планеты. Хотя планета Земля – всего лишь пылинка во Вселенной.
А человек – пылинка на планете Земля. Он настолько мал в масштабах космоса, что его жизнь не имеет никакого значения в мироздании.
Но мы, люди, думаем иначе.
Мы воображаем себя «венцом творения, по образу и подобию…», думаем, что мы – единственные существа на Земле, наделённые разумом.
И только мы «имеем право».
И только нам дано понимать и анализировать, что происходит на этом свете.
Столько чувств и эмоций у вселенской букашки по имени «человек», что не хватит и всей космической матрицы выразить их многообразие.
Представители многих религий, учений и революционных теорий пытались определить, как надо жить, куда стремиться человечеству, где искать благодать.
Взрываются галактики, возникают чёрные дыры, гаснут белые карлики, формируются звёздные системы и зарождаются планеты. На одних живут люди, на других – разумные медузы, а третьими управляют мыслящие океаны.
Вселенная развивается, растёт, сжимается. Меняется и наша планета.
Континенты за миллионы лет то поднимались, то опускались в океан. Климат то обжигал, то замораживал планету. Биосфера то вымирала, то расцветала. Учёные доказали, что жизнь на Земле зародилась от удара молнии в воду.
Отдельно взятый человек за свою короткую жизнь крайне редко сталкивается с существенными изменениями человеческой цивилизации. И у Глеба не предполагалось никаких неожиданных перемен.
Но тут пришла перестройка. Вся страна всколыхнулась, а волны пошли по всему миру. В Польше неожиданно обрушилась Варшавская радиомачта, на то время самое высокое сооружение в мире. Начала разваливаться Югославия. Произошёл раздел Черноморского флота СССР между Россией и Украиной. А самое большое в мире государство, Союз Советских Социалистических Республик, распалось, и возникла новая страна – Российская Федерация.
Глебу, как человеку молодому, перестройка показалась очень интересной своей необычностью и сказочными возможностями для самореализации людей: плановое производство исчезло, появился свободный рынок. Но надо было понять, что это такое, и Глеб записался на курс лекций по разъяснению новой рыночной политики.
Лекции проводили на окраине города, в клубе Сормовского судостроительного завода. На них выступали чиновники, представители исполкомов и даже какие-то бизнесмены из Европы и США.
Всем хотелось сидеть ближе, всем хотелось всё услышать и всё понять, разобраться, как работать не на «дядю», а на себя. Уже началась лекция, и тут в зал заглянула девушка. Она поискала глазами свободное место и двинулась в глубину зала, прямо к Глебу. Высокая, с аккуратно уложенными густыми волосами, в лёгкой кофточке и джинсах. «Какая красавица, – подумал Глеб. – Да ещё и новинками экономики интересуется». Глебу показалось, что девушка ему знакома.
Да, это была Ида!
Глеб не видел её с похорон деда. В городе она выглядела совсем по-другому.
– Привет, Глеб! – сразу узнав его, сказала Ида и села рядом.
А Глеб уже ничего не видел и не слышал.
Жизнь его стала светлее и ярче, как в детстве. Он вспомнил, как говорил деду Якову, что будет любить её всю жизнь.
Когда лекция закончилась, они поболтали, повспоминали Миловку и поехали вместе на автобусе в центр города. Оказывается, Ида училась заочно на последнем курсе в Торговом институте, а на эти лекции её направили от ювелирного магазина «Рубин», где она работала старшим продавцом в «золотом» отделе.
Центр города после отмены указа Петра I о запрете возводить каменные здания, кроме как в Северной столице, стал застраиваться красивейшими особняками.
В школьном детстве Глеб любил искать приключения на главной улице – Большой Покровской. Она была очень широкой и длинной. По ней бегали красные троллейбусы. В старинных зданиях было множество больших и малых магазинчиков, парикмахерских, кафешек; здесь же располагался знаменитый на весь город Мытный рынок. Там, у нижних ворот рынка, стояла маленькая, чуть больше домашнего холодильника, будочка по ремонту обуви, наполненная запахами сапожного клея, кожи и крепкого табака. В ней сидел вечно согнувшийся над очередным ботинком сапожник дядя Зина с постоянно дымящейся «козьей ножкой».
Глебу нравились запахи кожи и клея в будочке. Он подолгу торчал там из-за того, что дядя Зина давал ему послюнявить сапожные гвоздики, перед тем как забивать их в обувные подмётки.
На этой же центральной улице находился кукольный театр, так любимый всеми детьми, и кинотеатр «Орлёнок», где показывали приключенческие фильмы. А в здании Дворянского собрания работало несколько судомодельных кружков и акробатических секций. В тире возле Дома офицеров можно было за две копейки пострелять из настоящей винтовки. На каждом перекрёстке стояли киоски с мороженым и газировкой. В огромной арке перед зданием Госбанка местные мальчишки зачастую устраивали игры в войнушку с воспитанниками сиротского приюта, проживавшими в Заводском доме.
Но все прогулки по Большой Покровской заканчивались у памятника великому лётчику за Благовещенской площадью. А уже от памятника ребята бежали к реке по гигантской лестнице в виде восьмёрки, купались и мчались по ней вверх обратно к памятнику – кто первый. Самым любимым местом у Глеба был небольшой сквер у Нижнеокского драматического театра. К нему примыкала пекарня, где продавали эклеры, которые он очень любил.
И вот в своём любимом сквере выросший Глеб и назначил свидание Иде для серьёзного разговора.
Встретившись, они присели на знаменитую на весь Нижнеокск скамейку Даля. Глеб рассказал Иде, что, отслужив в воздушно-десантных войсках и получив высшее образование, был распределён в «закрытый» институт здесь, в Нижнеокске, и живёт один в Холодном переулке. Затем увлечённо стал говорить о том, что с перестройкой у всех появилась надежда на более интересную жизнь, чем была до этого:
– Я понял: теперь каждый может работать сам на себя. Сколько заработал, столько и получил. Регистрируй кооператив и делай что хочешь. Никто тебе ничего не запретит и не помешает. Я, изучая в университете основы марксизма-ленинизма, где-то в труде Маркса «Капитал» встретил строчку, что если число наёмных работников не превышает семи человек, то это не капиталистическое предприятие, а социалистическое. При таком малом количестве людей, объединённых одним делом в производстве, нет возможности эксплуатации и несправедливого распределения доходов совместного труда. По этому принципу я и хочу создать свою фирму. Как ты думаешь, у меня получится?
Ида слушала его внимательно и кивала, а на вопрос Глеба ответила, что, конечно, у него всё получится.
Вдохновившись поддержкой Иды, Глеб, собравшись с духом, признался, что влюблён в неё с детства. Она ответила, что знала это. Глаза у Глеба загорелись, и он пригласил её на следующий день на обед в первое городское кооперативное кафе «Скоба», которое незадолго до памятного дня открылось рядом с пивным баром на улице Маяковского.
Раньше здесь был рынок на берегу реки, он как бы скобой охватывал Нижнеокский кремль. Улица Маяковского до революции носила название Рождественская. Тут были банки – и купеческие, и государственные, и иностранные, где заключались миллионные сделки. Украшали улицу пассажи купцов первой гильдии – Блиновых, Бугровых и Рукавишниковых – и красивейшая церковь купцов Строгановых. На Рождественской находились и самые дорогие рестораны. Народ победнее посещал бурлацкие «едальни», построенные в голландском стиле на набережной.
В советские времена в зданиях банков, ресторанов и пассажей расположились коммунально-хозяйственные конторы. Сохранились лишь один бар и пара столовых, но работали они отвратительно. Официанты хамили посетителям, меню было скудное, а в залах – грязь и мухи. Люди ходили туда только потому, что просто хотели есть. И, как только открылось кооперативное кафе «Скоба», оно стало стремительно набирать популярность. Глебу, как и многим горожанам, было очень интересно, что это за штука такая – кооперативное кафе.
На следующий день, в обеденный перерыв, Глеб зашёл за Идой. И хотя от «Рубина» ходил трамвай, они пешком спустились по Почаинскому съезду, вышли на улицу Маяковского и оказались прямо перед входом в кафе «Скоба». Вокруг него кружило много народа.
Не все решались зайти внутрь, побаивались нового, непонятного. Глеб тоже робел, но он уже пригласил девушку, и поэтому деваться ему было некуда. Немного потоптавшись, Глеб открыл дверь в кафе, пропуская Иду вперёд, и они, волнуясь, вошли в зал.
В кафе было очень чисто, от живых растений зелено и пахло свежестью. На столиках, застеленных белыми скатертями, стояли приборы со специями и вазочки с цветами, звучала тихая лирическая музыка. Глеб с Идой подошли к прилавку, где стояло несколько аппетитных блюд. Хорошо, что меню висело на самом видном месте. Салаты были по рублю, вторые блюда и того больше. Даже стакан чая, который в любой государственной столовой стоил четыре копейки, здесь продавался за пятьдесят.