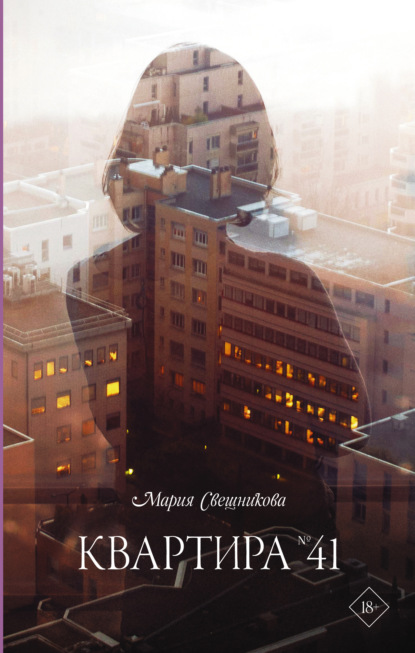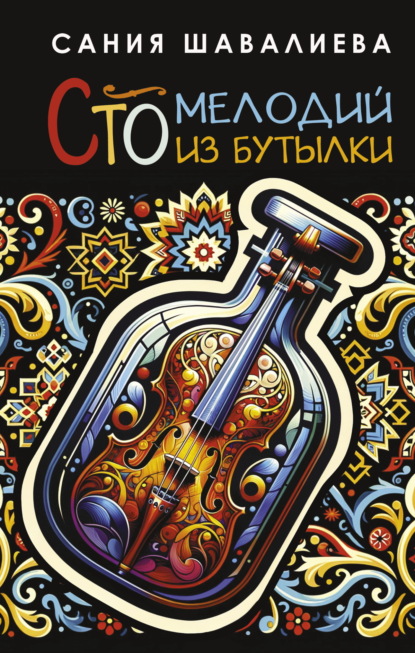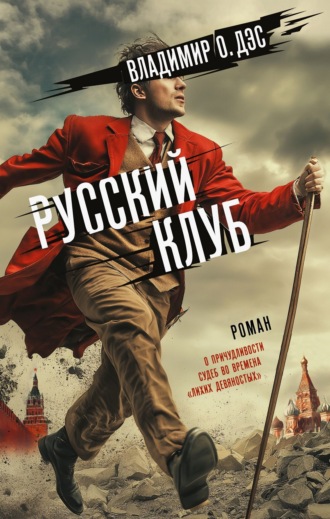
Полная версия
Русский клуб
Метод лечения с виду был прост.
Яков натирал больное место мазью из косточек своей вишни, смешанной с мёдом со своей пасеки, потом давал больному особую настойку и укладывал спать на печи, говоря: «Сон – это лучшее лекарство». После сна человек вставал абсолютно здоровым. Шли к нему не только из Миловки, и он никому не отказывал в помощи.
Но не только за лечением обращались к деду Якову.
В год необычайно сильной засухи пришли сельчане с просьбой возглавить крестный ход и вымолить у Господа дождь. Дед согласился.
Тогда засуха почти разорила колхоз, и это беспокоило его председателя. Он был коммунист во втором поколении и казался Глебу страшно злым дядькой. Ходил в хромовых сапогах и полувоенной форме.
Ездил на тарахтящем мотоцикле с люлькой. Всё время ругался. Основной его задачей было выгонять всех колхозников на работы и ловить тех, кто пытался что-либо унести с хоздвора: зерно, солярку или картошку. Но и он крестный ход не запретил, хоть и был ярым атеистом, и в этот день сбежал в районный центр от греха подальше якобы по своим делам. Понимал, что если и дальше засуха будет, а он запретит молебен, то народ взбунтуется.
Он помнил, что сделали люди с его отцом за Студенец, самый чистый и любимый сельчанами родник. Бил он из ложбинки на вершине стыка двух пологих ягодных холмов за Миловкой, и вода в нём была свежая и прохладная в любую жару.
Старожилы помнили, как на Студенце раз в год, в день весеннего равноденствия, устраивали весёлое гуляние. Они поджигали и пускали катиться от родника вниз по склону символ солнца – горящее колесо от телеги, обвитое соломой. И если колесо успешно катилось и полностью сгорало, это означало, что год будет урожайным.
Чуть повыше родника стоял двухметровый дубовый столб бледно-серого цвета и весь в трещинах от старости. На поверхности столба ещё можно было разглядеть рубленые черты какого-то языческого божества. Поговаривали, что это был идол Ярилы, бога первых поселенцев, осевших тысячу лет назад на месте будущей Миловки.
Столб этот стоял в земле как каменный, настолько крепко, что, возможно, когда-то это был и не столб вовсе, а живой дуб с мощными и глубокими корнями. Поэтому ни проповедники христианства, ни большевики не могли избавиться от этого символа язычества и, помучившись, оставили идола в покое.
Поэтому сельчане, которые не отреклись от Бога, стали ходить молиться вместо церкви на родник, приделав к идолу на Студенце иконку.
Отец председателя, первый коммунист в колхозе и ярый безбожник, чтобы люди и там не молились Богу, вылил прямо в исток родника бочку солярки.
За это безобразие били его цепами, поймав ранним утром на гумне. Не мужики били, а женщины.
Родник с годами восстановился, а вот бывший председатель так и не распрямился после бабьего урока. До самой смерти ходил полусогнутым.
И вот женщины всем миром решили идти к Студенцу, выпрашивать у Бога милости. За всё лето не было ни одного дождя. Вода исчезла и из оврагов, и из родников.
Даже река Пьяна высохла до дна, превратилась в канаву с жидкой грязью, а из обмелевшего омута вылез сом весом килограмм под двести. Всё тело его было в огромных бородавках и наростах. Гигантская голова в половину туловища, с шевелящимися, словно змеи, усами жадно хватала ртом жаркий воздух.
Сом был страшен.
Прошёл слух, что именно это чудовище и выпило воду из Пьяны. Высохли все колодцы в селе, люди и скотина мучились от жажды.
Дольше это терпеть было нельзя.
И решил народ совершить крестный ход от полуразрушенной церкви через высохшие поля к Студенцу.
Верили, что сообща смогут вымолить у Господа спасение.
Мужики предпочли, покуривая, собраться у правления колхоза и пообсуждать мировые проблемы. Многие из них были атеистами. Они считали, что крестный ход – бесполезное мероприятие, пусть этим занимаются бабы.
Женщины же подошли к делу серьёзно. Они были в праздничных одеждах, с иконами и нательными крестиками.
Вообще в деревне мало кто носил кресты, в основном это были старухи и несмышлёные дети. Городские ребятишки, на которых по приезде в деревню их бабки в обязательном порядке надевали алюминиевые крестики на верёвочках, как правило, их теряли или носили украдкой. Все они были либо октябрята, либо пионеры и считали ношение крестов делом позорным. Но их бабушки были уверены, что православные крестики защищают внуков от нечисти, увечий и травм.
Дед Яков пришёл на крестный ход весь в белом, с серебряным нательным крестом на толстой витой тесёмке. Он со всеми поздоровался, построил людей в колонну. Сам встал впереди. За ним на самодельных носилках приготовились нести храмовую икону Преображения Господня, сохранённую после разорения сельской церкви.
Благословясь, колонна не спеша, с молитвами тронулась в путь. Взрослые и дети с надеждой на милость Божью шли босиком по горячей пыльной дороге, мимо выжженных солнцем полей, к своему спасению, к Студенцу.
Наконец подошли к роднику, который почти пересох и едва бился малой струйкой. Дед Яков прислонил икону к древнему столбу, встал на колени перед ней и стал молиться.
Просить у Господа милости.
Большая толпа, окружив полумесяцем родник, тоже опустилась на колени. Истово крестясь, женщины и дети стали кланяться вслед за дедом, касаясь лбами иссохшей земли.
Дед молился долго. Сквозь звенящую жару только и было слышно: «Господи Иисусе, Царь наш небесный…»
Детишки, устав от кусачих слепней и занудных мошек, начали капризничать. Женщины от жары, духоты и тоски из-за уже пустой, казалось, затеи начали роптать…
Солнце подошло к зениту, а ожидание молившихся людей достигло предела.
Дед Яков перестал бить поклоны, встал с колен, сказал: «Аминь», широко перекрестился на все четыре стороны, вынул из-под рубахи крест, поцеловал его, прошептав: «Прости меня, Господи», и, закрыв глаза, замер.
И вдруг пропали слепни и мошки.
Исчезли звуки.
Мир, до этого звеневший, шептавший, зудевший, будто вмиг куда-то провалился.
Наступила полная тишина.
Всё замерло, а рядом с солнцем, посреди небесного марева неизвестно откуда возникла тёмная точка и стала быстро увеличиваться.
Не успели люди опомниться, как гигантское облако, заслонив собой солнце, взорвалось молнией, грохнуло громом и рухнуло на землю ливнем.
Все ахнули.
Заплакали дети.
Женщины повскакивали с колен и жадно стали ловить вымоленную воду.
Кто руками, кто ртом, кто подолом.
Кто смеялся, кто плакал, кто танцевал.
Глеб тогда понял одно: «Дед Яков попросил у Бога дождя, и Бог дал…»
Дождь лил сутки.
Земля от воды набухла, как губка.
Река Пьяна вошла в свои берега.
По всей деревне, как прекрасная музыка, гремели у домов колодезные цепи.
Вечером следующего дня председатель, вернувшийся из райцентра, пришёл к деду Якову с бутылкой «чистой» водки, купленной в кооперации. Глеб в это время уже был на печи и подрёмывал.
Председатель побаивался по-трезвому спросить деда, как ему удалось дождь с неба вызвать.
Он боялся, что дед возьмёт и вдруг откроет ему тайну, да такую, что она перечеркнёт всю его жизнь.
Шёл он к деду Якову, трусливо спотыкаясь и чавкая сапогами по раскисшей от дождя дороге. Сам себе шептал: «Я не боюсь тебя. Я власть. Что ты мне сделаешь? И Бога нет. Последнего попа мой батя шлёпнул в семнадцатом».
Придя в избу к деду, он начал крутить разговоры на отвлечённые темы и всё подливал и подливал себе из своей бутылки.
– Вот ты, Яков Александрович, вроде весь седой, а сказать, что ты старый человек, нельзя. Почему? – уводил он деда от серьёзного разговора.
– Старым человек становится не тогда, когда опал с виду, а когда перестаёт обращать внимание на дела и заботы других. Когда начинает искать покой и все разговоры сводит к самому себе, к своим болезням и пустым проблемам. Когда думает только о своей смерти, а не о жизни других.
– Ты хочешь сказать, что о смерти не думаешь? Может, ты и смерти не боишься? – перебил председатель деда, стуча гранёным стаканом по столу.
– Человеку страшна не смерть, а бессмертие, – попытался закрыть эту тему дед.
– Это ты что-то странное говоришь! – всё больше пьянел председатель.
Вопросы его становились всё смелее.
– Так как же ты сумел дождь вызвать? В чём тут хитрость?
– Нет никакой хитрости. Надо верить, и всё тебе Господь даст, по делам твоим.
– А кто видел твоего Бога? – продолжил председатель. – Мы вот в космос спутник запустили и никакого Бога там не видели. Может, ты его встречал?
– Встречу с ним ещё нужно заслужить. А вот Сатана каждый день в твоём стакане.
– Зачем ты меня обижаешь, дед Яков? Я пью не потому, что хочется, а оттого, что тоска в сердце.
– Тоска у тебя оттого, что в душе твоей Бога нет.
– Значит, в твоей есть?
– Ты выгляни в окно, – отвечал дед Яков. – Дождь был? Был! Вот тебе и ответ: есть в моей душе Бог или нет.
– По дождю как бы есть. Но я считаю, что просто совпали явление природы и твои молитвы пустые. А по жизни? Что же твой Бог не спас Россию от революции?
– Что Богу не угодно, то царям не подвластно, – спокойно сказал дед. – Значит, так надо было.
– Надо? Кому надо? Богу вашему?
– Суета ты. Всё вам, коммунистам, скорее да быстрее. Послушаешь вас – так вы, как и Христос, зовёте к свободе, равенству и братству. Но способы у вас иные, торопливые, и живёте вы так, будто сами не верите в то, что говорите, а жизнь не терпит суеты. Жизнь – это покой под Божьим покрывалом.
– Вон ты как повернул. Мой покой – это вот… – И председатель постучал пальцем по стакану с водкой.
Глеб, засыпая, слышал разговор, но особо ничего не понимал. А услышав слово «спутник», навострил уши: председатель заговорил о том, что Гагарин летал в космос и никого там не видел, Глеб с ним мысленно согласился. Он помнил, как им, школьникам, вбивали в голову простым стишком, что Бога нет: «Села бабка в самолёт и отправилась в полёт. Приземлилась бабка эта и сказала: “Бога нету!”»
Дети без устали повторяли этот куплет как считалку.
Дед, услышав, что Глеб зашевелился, сказал председателю:
– Ты давай пей, закусывай, а что да как, на это день будет.
И дед налил председателю не из его бутылки, а из своей, с медовой настойкой. Председатель выпил и тут же уснул прямо за столом.
Дед Яков уложил председателя на кровать и позвал Глеба спать в садовый шалаш.
Председатель, протрезвев поутру, вышмыгнул из избы Якова как мышь, даже не извинившись за вчерашние пустые разговоры.
Глеб тогда мало понял из того, о чём говорили дед и председатель, но одно он точно усвоил: Бог есть, раз дождь был.
В то время Глеб был по-мальчишески влюблён в деревенскую соседку, дочку председателя. Она была не похожа на остальных, и звали её необычным именем Ида, и отца своего она называла непривычно – тятей. Относилась к нему ласково и с уважением.
Ходили слухи, что её бабка была дочерью князя Хованского. В дни послереволюционных событий князь метался по фронтам Гражданской войны, а в их деревню Миловку прибыл представитель большевиков для создания колхоза.
Это был молодой, красивый парень Семён Ашек из семьи разночинцев. Их идеи о всеобщем равенстве, любви и счастье отозвались в сердце молодой девушки учением Христа. И хотя она была княжеских кровей, но активно включилась в создание колхоза. Ходила вместе с Семёном на собрания, отдала под агитбригаду дом отца и сама не заметила, как стала женой большевика.
Ашека избрали первым председателем колхоза, и он навсегда остался в Миловке вместе со своей красавицей. В семье Семёна старались не говорить о происхождении его жены, а после её смерти и вовсе об этом забыли, но слухи остались. Бабка Иды, родив, прожила недолго, очевидно, была слабо приспособлена к крестьянскому труду.
Её внучка представлялась Глебу ангелом, сошедшим с небес: прекрасная и какая-то нездешняя. Ему было тогда очень легко, радостно и весело рядом с этой девочкой. Глеб ещё не понимал, что влюбился.
Конечно, в Миловке были ещё девчонки, но те, остальные, воспринимались Глебом как обычные земные существа, а Ида – как сказочное создание.
Иногда она совсем не замечала Глеба. И его детский мир тускнел и бледнел. Становился неинтересным. Но достаточно было одного её взгляда, как всё моментально менялось. И вместо проливного дождя светило солнце, вместо карканья ворон пели соловьи, и душа Глеба рвалась наружу от счастья. Хотя, как правило, длилось это недолго.
Ида считалась первой красавицей в Миловке, пользовалась повышенным вниманием ребят и часто, отвернувшись от Глеба, играла и разговаривала с ними. В это время внутри у Глеба возникало необъяснимое чувство неприязни к мальчишкам, с которыми только что дружил. И он, удивляясь сам себе, сердился на них непонятно за что.
Но стоило Иде заговорить с Глебом, все вокруг опять становились добрыми и верными друзьями.
Порой он замечал, что Ида наблюдает за ним: какие поступки он совершает и как ведёт себя в различных ситуациях. Глебу в такие минуты казалось, что она старше, умнее и опытнее его и знает что-то такое, чего не знает он.
Ради её расположения он даже дрался с деревенскими мальчишками. Но Ида так и не стала с ним дружить, обозвав драчуном.
И тогда Глеб решил обратиться к Богу, но не сам, а через деда, как недавно это сделали сельчане.
– Деда, – смущаясь, заговорил он, – попроси, пожалуйста, Боженьку, чтобы Ида стала дружить со мной.
Дед всё сразу понял.
Он усадил Глеба напротив себя и сказал:
– Хорошо, я попрошу. Предположим, Господь услышит меня, исполнит просьбу и Ида станет с тобой дружить. Но со временем она может тебе разонравиться, и ты больше не захочешь с ней водиться. А Ида, увидев, что ты к ней стал равнодушен, будет плакать и переживать. Тогда как?
Дед Яков, видя, что Глеб совсем смутился, предложил:
– Ты же мало знаешь её, да и с её родственниками не всё так просто. Давай-ка подождём обращаться к Боженьке с такой просьбой. Это дело серьёзное, это не концерт по заявкам. Хорошо?
– Хорошо, – подумав, согласился Глеб, но на деда обиделся. Он-то был уверен, что никогда не откажется от дружбы с Идой и будет всю жизнь рядом с ней.
Глеб, конечно, не знал, что его дед, при всей своей мудрости и правильности, имел грешок, известный всему селу.
После Великой Отечественной войны в Миловке остались одни вдовы. К ним и стал заглядывать Яков. Похаживал и думал, что никто об этом не ведает и видеть не видит. Вроде умный мужик, но «не разведчик».
Частенько в сумерках задами отправлялся он к очередной кумушке, а его собака у всей деревни на виду порядком шла к дому, куда дед пробирался тайно. Собака ложилась перед крыльцом счастливой бабёнки и ждала. Яков под утро опять задами, не замеченный никем, как ему казалось, пробирался к своему дому, а его собака через всю деревню весело бежала домой и там уже, радостно виляя хвостом, встречала своего хозяина на родном крыльце.
Чем он так привлекал вдов, уже будучи немолодым человеком, доподлинно не известно. При всей своей строгости характера с ними был всегда нежен и ласков. Что и нужно было одиноким женщинам.
Когда-то и Яков был официально женат.
В Миловке жила целая легенда про Якова и его жену Анну.
Яков в молодости был балагуром, хорошо играл на гармошке и пел красиво. Женился, но играть, петь и гулять не перестал. Анна, молодая жена Якова, терпела-терпела, собрала в охапку своё приданое и ушла к родителям.
Молодой муж явился за ней через день. Стал уговаривать вернуться.
Она ни в какую: «Не вернусь, пока не сожжёшь свою гармошку».
– Зачем же хорошую вещь губить? Да и не в ней дело, – ответил Яков. – Мы по-другому это решим. Гармонь я продам, а чтобы совсем соблазна у меня не было, сделаем так…
Он взял топор, положил правую ладонь на чурбан, три пальца подогнул, а два, средний и безымянный, отрубил одним ударом топора.
Анна вернулась, родила ему сына Андрея, отца Глеба, и вскоре умерла. Сына взяла на воспитание сестра Якова Дария, которая вышла замуж в село Бритово и жила там с мужем.
Андрея в восемнадцать лет призвали в армию, после службы он в деревню не вернулся. Стал работать шофёром на радиозаводе в городе Нижнеокске, женился, получил жильё в хрущёвской новостройке да так и остался в областном центре. Больше из истории семьи Глеб ничего не знал, пока не стал ездить на лето к деду.
А вот в деревне о его предках знали всё.
Предки деда Якова служили при дворе князей Хованских. А с начала Первой мировой войны отец деда Якова вместе со своим барином был призван на Германский фронт.
По одной из легенд, в марте 1917 года он вместе с князем Хованским находился в псковской Ставке Северного фронта, куда прибыл поездом Николай II, Верховный главнокомандующий, император Всероссийский. Хотя император и был всего лишь в звании полковника, он в эти тяжёлые годы войны решил сам возглавить войска.
И вот он под Псковом на линии фронта. Князь Хованский в этот момент был назначен Ставкой дежурным генералом в императорском поезде.
Туда же из Санкт-Петербурга приехала уполномоченная Государственной думой делегация. Привезли императору манифест об отречении от власти. Николай II, выслушав их, разослал всем командующим телеграммы с вопросом: согласны ли они с предложением о его отставке? Все, кроме командующего Черноморским флотом, ответили утвердительно.
Получив ответы на свои телеграммы, император понял, что большинство командующих его предали. Расстроенный, он ходил по своему кабинету в царском вагоне, потом прошёл мимо Хованского, стоявшего по стойке «смирно», и остановился у буфета. Налил в серебряный фужер водки почти до краёв и залпом выпил. Не закусывая, закурил папиросу. Подошёл к окну и заговорил, как бы обращаясь к кому-то:
– Отец мне наказывал: не уступай ничего, потому что, если дать им палец, они всю руку отхватят. Не допускай ограничения самодержавной власти. А я уступил, разрешил собрания, партии, Думу, и вот итог: они требуют, чтобы я отдал престол и подписал манифест о своём отречении.
Несмотря на начало весны, было холодно, офицеры и солдаты грелись у больших костров вдоль императорского эшелона. Среди них был и отец деда Якова, и он даже видел профиль Николая II в окне вагона.
На душе у императора было неспокойно – фронт трещал по швам. Феликс Юсупов, эксцентричный супруг племянницы Ирины, зачем-то застрелил Григория Распутина. Но главное: окончательно рушилась экономика. Страна медленно, но упорно превращалась из Российской империи в колонию Европы: банки под англичанами, заводы под немцами, нефть и горнорудные месторождения под бельгийцами. Вывоз капитала из страны в пять раз превышал годовой национальный доход.
Потушив только что раскуренную папиросу, император продолжил говорить вслух: «Отрекусь… Отрекусь! Заберу Аликс, детей и уеду в Англию к брату Георгию. Буду колоть дрова для камина и заниматься фотографией». Он взял со стола первый попавшийся под руку карандаш и быстро подписал отречение.
Князь Хованский настолько был потрясён тем, что произошло на его глазах, что немедленно сдал дежурство другому генералу и тут же подал в отставку. Не признавая никакую власть, кроме монархии, он вначале «окопался» в своём миловском поместье на Лысой горе, а с началом Гражданской войны, оставив на хозяйстве прадеда Глеба, уехал на фронт. И уже из Крыма уплыл за границу, поэтому увезти семью и нажитое богатство не смог.
Ходили слухи, что перед отъездом на фронт генерал Хованский успел зарыть десять чугунов с золотом. И поручил отцу деда Якова зорко охранять это тайное место, но предупредил, что за кладом приедет сам лично – никому иному богатство не отдавать. Очень доверял князь своему другу и верил, что вся эта «власть Советов» ненадолго.
О богатстве Хованских ходили легенды ещё с прошлых веков, когда князья «чудили».
Один князь предлагал всем своим холопам от Рождества до Рождества брить бороды каждый день. Кто брил весь год – тому золотой.
Другой награждал за самый интересный подарок на свой день ангела – будь то говорящий скворец, генеральские сапоги со «скрипом» или концерт местного виртуоза на деревянных ложках с прибаутками и акробатическими трюками.
Кто в престольный праздник в трёх варежках на гармошке плясовую сыграет – тому тоже золотой.
В общем, потрясли деньгами в своё время князья. Этим и убедили Миловку, да и всю округу, что золото у них было.
Раз в два-три года являлись люди к отцу деда Якова с устными указаниями от князя или с его письмами. Может, и вправду были они от князя, а может, от жуликов – кто их разберёт? Но клад так никто из них и не получил.
А в начале тридцатых, обнищав в эмиграции и потеряв надежду на возврат к старому, больной и немощный Хованский тайно вернулся в Миловку за своим золотом.
Отец деда Якова даже заплакал от счастья, что сможет теперь снять с себя этот наказ, освободит душу от исполнения воли своего друга и господина. И рассказал, что княжеская дочь была замужем за Семёном Ашеком, председателем колхоза, и родила князю внука, но буквально за месяц до возвращения Хованского умерла непонятно от чего.
И когда они в глухую ночь собрались за золотом, уже полусогнутый председатель колхоза Семён, боясь своего родства, донёс на них в ЧК. Их арестовали. Оба ни в чём не признались и сгинули в подвалах НКВД. А вот своему сыну, Якову, отец якобы успел шепнуть, где закопан клад. Но дед жил скромно, и никто никогда у него никакого особого богатства не видывал.
А ещё была легенда про жену Якова Анну и её предков.
В те давние времена царь Иван Грозный возвращался после взятия Казани, и путь его пролегал мимо Миловки.
Царь был мрачен, тёмен, победа, казалось, не радовала его. Тысячи были забиты и замучены под стенами вражьего города.
Шли уже седьмые сутки пути. Все валились с ног. Но царь не спал. Он никогда не спал после большой крови. В начале пути бражничал. Потом кучами таскал девок к себе в возок. Потом в кровь избил Малюту.
Наконец затих.
С неба непрестанно лил дождь со снегом. Кони не шли по раскисшей дороге, и вместо них впрягли полуголых, тощих, измождённых пленных. И они, чуть не по горло увязая в чёрной, как дёготь, жирной земле, медленно двигали возок государя. Сотнями их оставляли по пути, захлебнувшихся в дорожной жиже или задавленных по нечаянности.
Мостов через реки не наводили. Просто заваливали теми же пленными, которые тянулись огромными шевелящимися колоннами по обе стороны от царского обоза.
Казалось, отдыха не будет до самой Москвы.
Но однажды, уже под вечер, занавеска за окошечком в царском возке вдруг шевельнулась. Конник, ехавший рядом, от этого шевеленья метнулся в сторону и, столкнувшись с телегой, гружённой утварью, слетел с коня. Телега не успела остановиться и проехала по нему задним колесом, вдавив конника в хлипкую землю, с хрустом переломав ему рёбра. Дикий его крик нарушил привычный гул долгого, тяжёлого похода.
Царь выглянул.
Возок остановился.
Дверка открылась. С десяток рабов рухнули в жижу, чтобы было куда ступить царю.
Царь вышел.
Все вокруг упали на колени, кто где стоял. Даже собаки поджали хвосты и униженно заскулили, вертясь на месте.
Царь по живой гати вышел на небольшой пригорок, огляделся вокруг и велел ставить лагерь.
При царе находился писарь. Ивану Грозному нравилось, как старательно тот выводит буквы, как правильно излагает государев глагол на бумаге.
В тот вечер он, записав, что ему надиктовал государь, и найдя сухое место под ореховым кустом, завалился туда и заснул как убитый.
Поутру с первым холодком проснулся. И не от того, что выспался, скорее, от того, что вокруг стояла сказочная тишина, от которой сон сам собой прервался. Писарь встал, тихо отошёл подальше от царского шатра и обогнул холм, поросший низкорослым орешником. Солнце едва-едва побелило облака на востоке. В низине, накрытой туманом, затаилось несколько болотин. Прямо за ложбиной, начинаясь редкими берёзами, вырисовывался громадный лес.
Писарь подошёл к липке, случайно проросшей в кустарнике, и срезал веточку чуть потолще пальца. Обрезал её с двух концов, обстучал и, присев на кафтан, брошенный на сырой бугорок, смастерил дудочку. Пока колдовал над липовой веточкой, солнце уже обозначило день.
Начали просыпаться птицы. Побежали кулики, шарахаясь от спящих походников.
Он облизал губы, встал и потихоньку заиграл мелодию – она сама вдруг пришла ему на сердце. Потом забылся, стал играть громче и громче, покачиваясь из стороны в сторону, и вдруг почувствовал: сзади что-то не то. Перестал играть и быстро обернулся. За спиной стоял царь, а за ним – войско, молчаливое и страшное.
Писарь онемел. Ноги подкосились. Он упал на колени, уткнулся головой в землю.
– Встань, – донёсся приказ.
Писарь встал, дрожа всем телом.