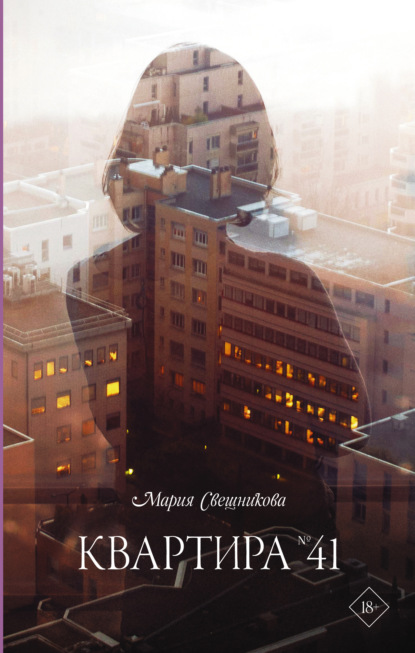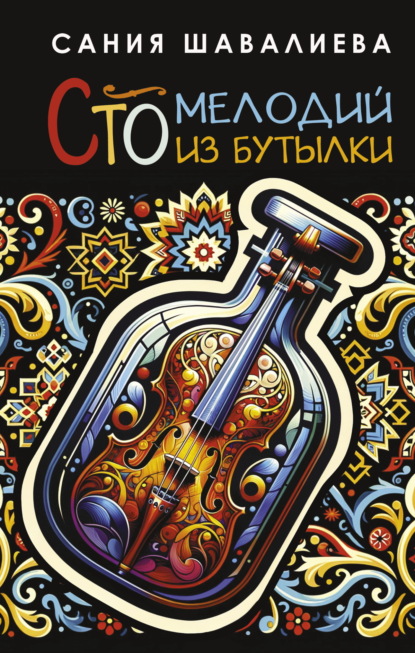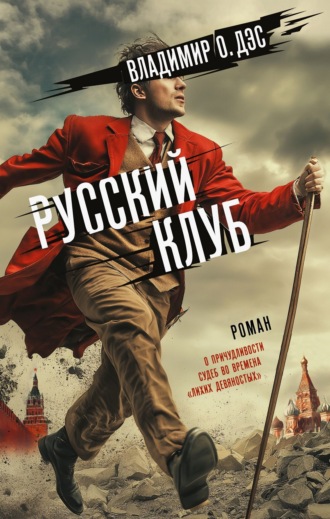
Полная версия
Русский клуб

Владимир Дэс
Русский клуб
© Текст. Владимир О. Дэс, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *Глава 1. Начало истории
Часть 1. Предчувствие
Наступил рубеж веков.
Заканчивалось второе тысячелетие.
Для первого президента России начались тревожные дни.
Прошло два года после операции на сердце, и вот опять появилась боль, чуть выше солнечного сплетения. Иногда она отпускала, но стоило пройтись побыстрее или поднять что-то тяжелее папки с документами, как боль появлялась вновь.
Занимаясь государственными делами, Ельцин стал быстро уставать. Путались мысли, возникало предчувствие беды.
На ночь он выпивал рюмку водки, и боль стихала, давая поспать, но утром опять возвращалась.
Всё чаще Бориса Николаевича мучило ощущение, что он может умереть в любую минуту. От этого на душе становилось тяжело. Давил страх за семью. Он прекрасно знал из курса истории, как поступали с семьями первых лиц, которые не подготовили себе замену.
Ельцин был твёрдо уверен, что именно семья – основа государства и всего человечества. Поэтому в первую очередь надо обеспечить надёжное будущее родных и близких, а уж они, вместе с его преемником, смогут сохранить с таким трудом воссозданную им Россию.
Борис Николаевич решил сперва переговорить на эту тему со своей старшей дочерью. Пригласил её к себе на дачу в Барвиху.
Сели пить чай.
Борис Николаевич не любил долгих реверансов, поэтому начал разговор без предисловий:
– Понимаешь, доча, пора… Надо решать, кого на моё место.
– Ты что, папа? Ты у нас ещё ого-го…
– Да нет, пора. Никто не вечен. Если не поставим президентом России своего в доску человека, вас всех разорвут на части…
– О чём ты говоришь?
– Всё о том же – пора определяться с моим преемником. Ты знаешь Певцова, губернатора из Нижнеокска?
– Бориса? Да, видела несколько раз, симпатичный парень.
– Поедешь к нему, поговоришь. Если почувствуешь, что сможешь с ним работать, предложишь сначала пост вице-премьера, с перспективой на место президента России.
– Да он ещё мальчишка, причём какой-то несерьёзный…
– Американцы его любят – это уже полдела на выборах. А ещё французы через свою разведку «крючок» на него передали.
– И что там?
– Фильм о человеческом скотстве, где в главной роли этот «мальчик», как ты говоришь. Там его политическая смерть. Но за это попросили подвинуться в Африке.
И с этим Борис Николаевич отпустил дочь.
Боль снова сдавила грудь.
Часть 2. Миловка
Иногда дороги человеческие настолько запутаны Господом Богом, что, сколько ни ломай голову, понять их невозможно.
Однако у каждого пути есть своё начало.
Для Глеба стартовой точкой, ведущей к его взрослой жизни, стало решение родителей впервые отправить его в деревню Миловка, к деду Якову, на всё лето.
Туда, в библиотеку клуба, пришла посылка с ежемесячной подпиской на периодику, и в ней, помимо «Здоровья», «Работницы» и «Сельской жизни», оказались выпуски журнала «Техника – молодёжи», где размещались статьи о достижениях в мире космоса и разных изобретениях, что очень сильно будоражило пытливые умы.
В одном из летних номеров 1972 года была новость о запуске космического аппарата «Пионер-10» с посланием человечества к внеземным цивилизациям и теория о том, что планета Земля – это не просто огромный шар с континентами и океанами, а живой организм по имени Гея.
Ещё сообщалось, как играть в шахматы без шахмат, что эмигрант из России изобрел в США Polaroid – фотоаппарат моментальной печати, американцы высадились в очередной раз на Луне, а СССР запустил станцию «Венера-8», которая совершила мягкую посадку на одноимённой планете.
Для мальчишек, начитавшихся жюль-верновских приключений, это были самые знаменательные события. Они так взволновали сельскую детвору, что обсуждения в библиотеке продлились до поздней ночи. Глеб, вернувшись в дедову избу, лёг на кровать и только провалился в сон, как пропели ранние петухи.
На востоке стало бледнеть звёздное небо.
Истончались лунные тени.
Почувствовав это, ночные химеры заметались по углам и закоулкам, нехотя поползли в свои тёмные, глухие овраги.
Засобирались по домам и влюблённые пары, забывшие в своих жарких объятиях о времени и пространстве.
Где-то заскрипели ворота.
Скотина, истосковавшаяся за ночь по воле, заспешила, толкаясь боками, со дворов на зовущую свежей прохладой улицу.
Замычали коровы, заблеяли овцы, замекали козы.
Следом гавкнула собака, звякнула колодезная цепь, заурчал трактор.
Но ни петухи, ни другие утренние звуки в проснувшихся домах не потревожили сон Глеба, лишь резкий хлопок под самыми окнами избы.
Сквозь улетающий сон Глебу вдруг стало понятно, что этот хлопок – удар кнута. Значит, пастух уже выгонял стадо из деревни на луговину и Глебу пора было вставать.
Его ждала рыбалка.
Он ещё летал где-то в другом мире, другом измерении, и прекращать это не хотелось, но Глебу шёл двенадцатый год, и в нём начинал определяться характер. Характер охотника и добытчика.
Стряхнув с себя остатки сна, он спрыгнул с кровати.
Самого солнца ещё не было видно, но его лучи из-за пригорка уже скользили по крышам.
Наступало время пробуждения жизни, встречи с новым днём, новыми событиями и новыми ощущениями.
Стадо прошло, и вновь воцарилась тишина.
Глеб накинул дедов пиджак и, подхватив во дворе две ореховые удочки, двинулся по первому свету на Градский пруд, ещё дремавший в туманно-молочной дымке. Глеб взял левее от плотины и остановился у пологого берега, который зарос ивовыми кустами. Пруд этот был настоящим подарком для тёмно-бордовых карасей и любителей рыбалки.
На застывшей поверхности воды начали появляться первые круги от лёгких касаний утренней мошкары.
Глеб закинул удочки, пристроил удилища на рогатки и, присев, стал ждать поклёвку.
Ему нравилось, как клевал карась.
Надо было иметь большое терпение, чтобы дождаться, когда вдруг вздрогнет поплавок. Вздрогнет и опять замрёт. И снова…
Но это только поклёвка, только первая проба наживки осторожным карасиком. Такая поклёвка могла продолжаться несколько минут.
И Глеб терпеливо ждал.
В ожидании он задремал.
Но вдруг вскрикнула птица.
Затем зазвенел комар.
Зашуршали ивовые ветки.
Глеб протёр глаза и уставился на гладь пруда, где дремали два его поплавка из гусиных перьев.
Воображение у него было богатое, потому что учителя в школе Глеба учили не так, как учат обычно, и оценки ставили не столько за знания, сколько за способность отстаивать своё мнение, пусть даже самое невероятное.
Например, на уроке истории учитель, рассказывая о фараонах, пирамидах, войнах, религиях, вдруг спросил: «А что самое необычное в истории Египта?»
Ответов было много, перечислили почти всё, в том числе и пирамиды. Учитель ухватился за это и давай пытать, почему же самое необычное – пирамиды?
Все и так и эдак.
А он:
– Нет.
И, увидев, что ученики его не понимают, сказал:
– Самое необычное – это не пирамиды, а тот человек, который в пустыне вдруг сумел увидеть горы, то есть пирамиды, а увидев, решил их построить. И вот теперь они – одно из самых больших и прекрасных чудес света. Способность видеть в обычном необычное и есть основное богатство разумного человека. Понятно?
– Понятно, – ответили ученики, поражённые выводами учителя.
– За вами будущее, – говорил он, – и тот из вас, кто увидит в обычном необычное, кто увидит Землю не шаром, а кубом, совершит очередной прорыв человечества.
И Глеб всегда ожидал чуда с приходом нового дня. Мир вокруг него был загадочный и огромный.
А вдруг клюнет не карась, а кит и из тумана покажется не плоскодонная полузатонувшая лодка, а пиратский корабль?
И сам Глеб – не мальчишка, приехавший из города на лето к деду, а смелый д’Артаньян со шпагой и в кожаных ботфортах…
Но вот один поплавок глубоко нырнул под воду.
Глеб резко, с оттяжкой дёрнул удилище вверх и в сторону, и из воды вылетел блестящий карасик размером с ладошку.
В этот момент нырнул второй поплавок. Глеб, вмиг забыв и про китов и пиратов, и про д’Артаньяна, окончательно проснулся и только хватался то за одну удочку, то за другую.
Сердце переполняла радость.
Это его пруд.
Его мир.
Всё вокруг существует для него: и туман, и хлопки кнута, и карасики, и гусиные перебранки, и запах крепкой махорки от проходящих мимо мужиков.
И это была его малая родина – деревня Миловка.
Малая родина – это место, где живёт детская память.
Куда тебя тянет всю жизнь.
Где человек помнит себя счастливым. И именно здесь к нему приходит осознание себя как личности в бесконечной цепочке поколений.
По легенде, передававшейся из поколения в поколение, деревня получила поэтическое название Миловка от первых поселенцев, которые осели здесь более десяти веков назад.
В те стародавние времена эти холмы, ещё свободные от пахоты, сплошь были покрыты душистым клевером и полянами алой луговой клубники.
Вокруг холмов струилась серебряным пояском быстрая речка. Была она настолько вертлява и непредсказуема, что получила очень меткое название – Пьяна.
Брала она своё начало неизвестно где, подпитываясь из многочисленных ручейков и речушек, впадала в Суру, а затем в полноводную Волгу. Из Волги в неё заходили на нерест и стерлядь, и осётр, а бывало, что и белуга наводила своим «рёвом» ужас на всю округу.
И такой простор расстилался вокруг, такая красота, что люди не смогли пройти мимо этих мест.
Остановились.
От восхищения воскликнули: «Мило, как же здесь, други, мило!»
И назвали свою будущую деревню Миловкой.
Деревнями росла Россия, а уже сёлами росло население.
Возникновение поселения на пустом месте – всегда дело удивительное, загадочное и непредсказуемое.
Зачем Господь остановил этих людей именно здесь?
И надолго ли?
Что будет потом?
Будет здесь село или город?
Или всё это сгинет бесследно?
Первым поселенцам это было неизвестно. Оставалось только трудиться и верить в правильность своего выбора.
Основатели-первопроходцы к природной красоте этих мест добавили красоту своего крестьянского труда – поля, засеянные рожью и репой.
Странствующий монах из Греции привёз в Миловку гречиху и шашки. Так у селян появились гречневая каша, гречишный мёд и увлекательная игра для коротания долгих снежных зим.
Во времена Петра I появилась картошка. Она потеснила гречу и стала самой любимой едой.
Жители разбили вокруг деревни фруктовые сады. Завели пчелиные пасеки. Посреди деревни в овраге построили плотины и в образовавшихся прудах развели карасей. Караси так прижились, что в иные года вода «кипела» рыбой.
Когда число дворов в деревне перевалило за пятьдесят, Миловка была жалована князю Хованскому.
С ним, как утверждает молва, и прибыл один из предков Глеба. Он осел в деревне и стал управляющим княжеского хозяйства.
С приездом князя деревня быстро разрослась до двухсот дворов. Рядом с Миловкой, на самом красивом месте Лысой горы, возвели Хованские свою каменную усадьбу. На фундаменте недостроенного монастыря времён Ивана Грозного князь возвёл великолепный храм в византийском стиле, и деревня стала селом.
В 1861 году император российский Александр II отменил крепостное право.
А южные штаты США объявили о вечном рабстве на их территории, и началась Гражданская война между Севером и Югом.
Почти в это же время химик из Франкфурта изобрёл спички, Альфред Нобель создал динамит, русский учёный Лодыгин и американец Эдисон подарили миру электрическую лампочку накаливания. Менделеев создал Периодическую систему химических элементов. В журнале «Время» были опубликованы пьеса Островского «Женитьба Бальзаминова» и роман Достоевского «Униженные и оскорблённые».
А в Миловке открыли земскую школу для крестьян.
Шло время.
Чтобы жить успешно в непростом климате, где надо постоянно готовиться то к жаркому лету, то к слякотной осени, то к морозной зиме и весенней распутице, князь вместе со своими людьми начал заводить новые промыслы. С этой целью были выписаны из Германии несколько семей, которые занимались изготовлением ткацких и гончарных станков и ветряных мельниц. Поселили их недалеко от Миловки. Так появилась немецкая слобода Брюкс.
В самой Миловке семьи были большие: от семи до пятнадцати человек. Промыслы и умения передавались от поколения к поколению.
Наиболее шустрых и догадливых Хованские поставили на торговлю.
По осени, после Яблочного Спаса, из года в год на околице Миловки стала собираться многолюдная ярмарка. На неё съезжались крестьяне со всей губернии.
А производили в Миловке с Божьей помощью, княжеской заботой и трудовой смекалкой крестьян всё, что было необходимо для жизни в те времена.
На зиму в бочках солили грибы, помидоры и капусту, а огурцы – в выскобленных изнутри гигантских тыквах.
В огромных количествах варили варенье, сушили грибы, ягоды, фрукты и овощи.
На особом положении был крыжовник. Выращивали его более двадцати сортов.
Крыжовник был и зелёный, и жёлтый, и красный, и бордовый, и тёмный до черноты, и белый, как молоко. И маленький, как горох, и с крупную сливу.
Из особого сорта зелёного толстокожего крыжовника делали «царское» варенье.
Кислые, как щавель, ягоды зелёного крыжовника собирали чуть-чуть недозрелыми, разрезали пополам, вынимали мякоть и зёрна, отжимали их и получали сок, а вычищенные дольки складывали в большой чан и варили в этом соку сутки. Затем, в последние минуты варки, добавляли в почти готовое варево гречишный мёд. Варенье становилось прозрачным, золотистого цвета.
Поставлялось это варенье в Петербург, к царскому двору, поэтому оно и называлось «царским». Туда же на Рождество везли миловскую вишню, сушенную по особому рецепту таким образом, что мякоть под кожицей внутри ягоды оставалась мясистой, сочной и сладкой, как у только что сорванной с дерева. Поэтому такая вишня пользовалась большим спросом в столице Российской империи.
В водоёмах вокруг Миловки, как и в самой реке Пьяне, водилось очень много рыбы. Её добывали и готовили в разных видах. На ольховых веточках коптили сомов, стерлядь, осетров и судаков. Щук, ершей и окуней сушили. Лещей и голавлей солили тоже своим особенным способом: тушки величиной с «локоть» разрезали пополам, вычищали, просаливали и укладывали в бочки под сильнейшим гнётом и так держали до первых морозов, потом гнёт снимали, рыбу вынимали и успешно ей торговали.
Луговины в Миловке и вокруг неё были богаты трава – ми, поэтому все дворы, включая княжеский, держали прожорливых гусей. Их было такое количество, что летом эти стаи напоминали бело-серые облака среди зелёного разнотравья. Все перины у господ в губернии были из миловского гусиного пера. А в Рождество откормленным гусем, нафаршированным антоновкой или гречневой кашей, томлённым полдня в русской печи, угощались в каждой миловской избе.
Скотины был у всех полный двор. Один из потомков княжеского рода привёз из военных походов новшество: топить печи навозом. Его утрамбовывали в специальных деревянных формах в виде прямоугольников и сушили. Назвали такой кирпич кизяком и использовали в печках-голландках для дополнительного обогрева домов в особо морозные дни. Кизяк горел быстро и жарко.
По осени охотники на овсах добывали медведя.
Из медвежьих шкур шили для дворян богатые воротники и шапки. А из мяса делали знаменитую мидовскую буженину, закоптить которую правильно было полдела – её ещё надо было сохранить до следующей осени. А хранили её в капустном рассоле вместе с мочёными яблоками. И только тогда таяла она во рту под рябиновую наливочку, как медовый пряник.
Медведей в округе водилось немало. Их даже ловили и дрессировали, а затем водили по российским ярмаркам, где эти лесные звери под липовую дудочку плясали на потеху публике.
Раз в несколько лет происходило нашествие лис. И тогда у господ и зажиточных крестьян появлялись роскошные лисьи воротники. А когда пропадали лисы, в большом количестве появлялись зайцы, и в ход шёл заячий мех.
Помимо двух-трёх коров, при каждом дворе было с десяток овец и пяток коз. Шерсти заготавливали вдоволь. Зимними вечерами в каждом доме пряли тонкую овечью и козью пряжу.
Из пряжи вязали платки, кофты, безрукавки, носки, варежки – и для себя, и на продажу.
Ткали много шерстяного сукна.
Из овечьих шкур шили тёплые тулупы.
Для тех, кто породовитей и побогаче, шкуры выбеливали, добавляли благородные меха на воротники и отвороты. Для женщин обшивали рукава и подолы узорами из красной тесьмы.
Среди кучеров спросом пользовались синие долгополые армяки из миловского сукна с красными кушаками.
Почти в каждой избе валяли валенки.
Мужские – поплотнее и с двойной подошвой, детям и женщинам – помягче, а для выхода на праздники – из белой шерсти, с рисунками в виде сердечек или зверюшек.
Не меньше ценились и миловские мастера, которые плели водостойкие лапти из липового лыка. Это была очень удобная, лёгкая обувь. В ней ноги всегда были сухими, не уставали и при долгой ходьбе чувствовали себя как у Христа за пазухой.
Из бычьей сыромятной кожи умельцы изготавливали пастушьи, везде узнаваемые, миловские кнуты.
В конец хлыста вплетали конский волос, обязательно выстриженный из хвоста, а не из гривы. От этого миловские кнуты издавали особенный, резкий хлопок при ударе. От других они ещё отличались дубовыми резными кнутовищами, которые вымачивали в постном масле. После обжига кнутовище становилось тёмно-жёлтого, медового цвета и очень уютно лежало в ладони.
Из конопляной пакли вили верёвки.
Из лыкового мочала плели чудо-короба, дивные ягодные туески.
На ткацких станках, сделанных соседями, слободскими немцами, ткали половики и покрывала.
В многочисленных оврагах вокруг села нашли нужную глину.
На гончарных кругах начали делать великолепную посуду: чашки, кружки, тарелки. Расписывали их так, что слава о миловской посуде загремела по всей России.
Несмотря на разнообразие промыслов и большие хозяйства, кругом были чистота и порядок. Люди болели редко и почти не калечились. Если кто и болел, то завсегда в Миловке были свои знахари. Они лечили от всех хворей травами, настоями, заговорами и примочками. Сращивали кости и вправляли суставы, избавляли от лишаёв, сводили бородавки, выводили камни из живота, а простуду или немощь изгоняли с помощью бани, берёзового веника и обильного чаепития из собственного самовара. Они и роды принимали, и от смерти спасали.
Молодёжь умела не только хорошо работать, но и весело отдыхать.
На престольные праздники миловские девицы приходили в необычайно красивых нарядах. Шили они всё сами и украшали, используя местный лебяжий пух, самодельные тонкие ажурные кружева, а также атлас, бархат и бисер, привезённые с заморских ярмарок.
Девушки водили хороводы, пели песни звонкими чистыми голосами. Вместе с парнями устраивали представления, разыгрывали сценки из басен Крылова, сказок Пушкина и поэм Некрасова. Вечерами по будням парни и девки ходили вдоль порядков, взявшись под руки, и пели частушки настолько заковыристые, злободневные и остроумные, что, слушая их, можно было узнать о всех новостях Миловки и догадаться о личной жизни любого односельчанина.
На посиделках играли в шашки, прятки, жмурки, считалки, догонялки, состязались в силе и ловкости. Там девушки пели на разные голоса старинные песни – как правило, о любви. Парни были большими виртуозами игры на балалайках и деревянных ложках. А с появлением гармошек они научились наяривать на них так, что ноги сами пускались в пляс.
Сельчане повзрослее пели задушевные и задумчивые песни и пересказывали древние предания, передаваемые из уст в уста.
В каждой крестьянской избе был красный угол с православными иконами.
В княжеской усадьбе, помимо икон и итальянских картин, висели мирские полотна, написанные миловскими художниками-самоучками. А искусные резные деревянные часы, изготовленные местными умельцами, время отсчитывали не хуже бронзовых голландских. В селе ездили самодельные велосипеды, стояли ветряные и водяные мельницы.
Так испокон веков жили – не тужили ловкие, умелые и, как говорили в округе, «рукастые» миловчане.
Богатство их было в повседневном труде, разнообразии промыслов и рецептов, в умении сохранить традиции.
Жили общиной.
Село росло.
Со временем появились пришлые людишки. Были среди них в основном пьяницы, болтуны, драчуны и лентяи, которые здесь надолго не задерживались.
А в Миловке народ славился трудолюбием.
Пахали, строились, платили подати.
Соблюдали посты.
Боялись Бога.
Любили царя-батюшку.
Верой и правдой служили своему Отечеству.
Часть 3. Дед Яков
После 1917 года миловские крестьяне спокойно приняли новую советскую власть и всё так же продолжали трудиться.
Большевики порубили иконы, свалили кресты с куполов, закрыли церковь, но открыли клуб для молодёжи, в котором по вечерам были танцы, а в выходные дни показывали кино.
Вместо общины создали колхоз имени Карла Маркса и присоединили к нему деревню Бритово, переименованную из немецкой слободы Брюкс. Сельсовет стал властью. Создали кооперацию, открыли магазин, где торговали солью, конфетами, пряниками и жирной атлантической селёдкой.
Электричество в Миловке появилось после Великой Отечественной войны, а асфальтированная дорога – во времена покорения космоса.
Барскую усадьбу разобрали по кирпичикам, но вокруг фундамента княжеского дома, стоявшего на Лысой горе, ещё сохранились искусственные водоёмы в форме восьмёрок и звёзд, засаженные по краям парными берёзками в виде буквы V, и остатки великолепного парка с липовыми аллеями, уходящими от княжеской усадьбы к Миловке.
Вот на этом стыке бывшего парка и края деревни, под Лысой горой, как раз и стояла крепкая, из столетних дубовых брёвен изба, крытая многослойной соломой с полынью. От своей древности и тяжести брёвен она вросла в землю по самую завалинку и больше напоминала медвежью берлогу, чем дом. Жил там, как бобыль, Яков – дед Глеба.
Изба его была соединена с двором, и зимой скотина – коза, куры, петух и собака – жила вместе с хозяином, греясь у печи. Пол был земляной и всегда покрыт душистым сеном, по субботам сено менялось, и от этого в избе всегда было свежо и чисто. За избой раскинулся огромный вишнёвый сад.
Дед Яков, когда к нему стали привозить Глеба, был уже в приличном возрасте, но, несмотря на это, оставался физически очень сильным, кряжистым. Глебу всегда казалось, что дед врос невидимыми корнями в землю и вырвать его из неё невозможно. Походка его была твёрдой, взгляд – цепким и внимательным. До сих пор он двумя пальцами сгибал медные пятаки.
А в престольный праздник Яблочный Спас, уже в советское время, дед организовывал в Миловке старинную забаву, возникшую ещё во времена князей Хованских. Суть её была в перекидывании двухпудовой гири через избу, в которой жил сам участник этой игры. Не все могли это сделать, но всем хотелось поучаствовать в ней. Тому, кто успешно перекидывал гирю, князья Хованские дарили золотой.
Гирю кидали одной или двумя руками из-под широко расставленных ног. Раскачиваясь всем телом, участник резко выпрямлялся и подкидывал двухпудовку вверх по дуге, чтобы перелетела через дом. Если она уходила в свечку, то, падая вниз, пробивала крышу, потолок и приземлялась в подполе. Если сил не хватало кинуть гирю правильно, она ударялась в стену избы, вызывая дружный смех зрителей.
Для чего дед поддерживал эту забаву, было непонятно, но того, кто перекинул двухпудовку, он по традиции награждал, но не золотым червонцем, как князья раньше, а бочонком своего особенного мёда.
Сам дед Яков легко перекидывал через свой дом грозную двухпудовку и всегда был вне конкуренции среди сельчан. Хотя уважали его не только за физическую силу.
Он слыл колдуном и знахарем, умел заговаривать лишаи, вытаскивать клещей, принимать роды, вправлять вывихи, ловко извлекал усик ржаного колоса из горла ребёнка.
При болезнях и бедах все шли к нему.
И лечил он не только людей, но и животных. Со всей округи к нему приводили и привозили немощную, больную скотину. Оставляли её на одну или две недели и забирали уже здоровую.
В его вишнёвом саду была большая пасека. Пчёлы понимали его, слушались, и он их уважал, ходил к ним только в белых одеждах. Поэтому мёда было много. Однако был у него и особый мёд, который стоял в отдельном погребе в бочонках, и был этому мёду не один десяток лет. Из него дед Яков и готовил свои знаменитые лекарственные снадобья.