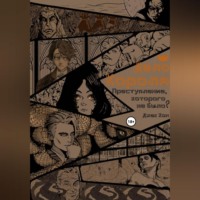Полная версия
Книга Соль
Даже обожжённой, даже в жару, где не отличишь бред от мысли, Алиса продолжала варить. Потому что иначе – всё. Пустота. Пепел.
День четвёртый. Снег и солнце
Она проснулась неожиданно.
Не от шума, не от крика, а просто потому, что тело больше не могло спать.
Как будто изнутри что-то щёлкнуло, сменилось, и теперь мозг начал работать – независимо от боли и усталости.
Свет бил в глаза, резкий, как вспышка.
Всё расплывалось, словно в зрачки попал снег.
Алиса с трудом повернулась на бок и осела с кровати, не вставая – просто соскользнула. Колени скрипнули.
Кожа липла к ткани.
Во рту – вкус пепла и чего-то металлического.
Голова гудела, будто всё ещё была в центре города.
Она дрожала, но не от холода.
На ней была накидка матери.
Шарф – схваченный первым. Сапоги – надеты на босые ноги, потому что искать носки не было ни сил, ни смысла.
Каждое движение давалось с трудом, но оставаться в постели стало невозможным.
Когда она вышла на улицу, солнце встретило её слишком ярко. Воздух пах мартом, ещё не оттаявшим, но уже живым.
Снег всё ещё лежал на крышах, но капли со стёкол – первые признаки того, что весна скоро заговорит всерьёз.
Она шла медленно. Шаги отдавались в теле, как удары молотка по ржавому железу.
Дом напротив казался нереальным – сном, который когда-то снился, но не закончился.
А земля под ногами дышала, как будто сомневалась – держать её или отпустить.
Голод пришёл неожиданно.
Не рычанием, а слабым щелчком в животе.
Вспышкой боли.
Три дня – без еды, без воды.
Только банку она держала.
Не как спасение, а как что-то обязательное.
Как крест.
Как долг.
И всё же она дошла.
Открыла дверь.
И вошла в комнату, которая встречала не словами, а светом.
Солнечные пятна на полу лежали ровно и спокойно, как будто ничего не происходило. Запах – лавандовый, с примесью лекарств и металла.
Пахло не смертью – а слишком долгим ожиданием. Как в палате, где забыли открыть окно.
Она вошла в спальню.
Там было всё по-прежнему.
Но она знала – это по-прежнему больше не повторится.
Марета всё ещё дышит.
Жизнь в ней держится тонкой, почти невидимой нитью – как занавеска на сквозняке. Она шевелится еле заметно, но этого достаточно, чтобы сказать: ещё не конец. Ещё здесь.
Лицо бледное, почти прозрачное – будто кожа стала вуалью. Но губы… губы розовые. Такие же, как лепестки шиповника, прихваченные морозом, но не потерявшие жизнь.
Сны держат её крепко. Она дергается, вздрагивает во сне – не жалобно, нет. Как зверёк под крыльцом, который всё ещё надеется на утро. Даже если никто не позовёт. Даже если никто не придёт.
Алиса садится рядом.
Тихо, медленно. Каждое движение – осторожное, почти церемониальное. Она достаёт банку – та кажется тяжелее, чем была. Будто за эти дни стекло впитало в себя всё: время, страх, память.
Крышка дрожит в пальцах. Не от холода.
От ответственности. От того, что выбора уже нет. От того, что время подошло вплотную.
Ложка – как ключ. Как первая свеча в темноте, от которой ждут чуда.
Одна. Только одна. Так было сказано.
И больше не надо.
Она черпает немного.
Запах не лекарственный, не травяной. Пахнет чем-то, что не передаётся словами: уголь, вино, полынь, пепел. Слёзы, застывшие в стекле.
Подносит к губам Мареты.
Мир, как будто понимая, замирает.
Ничего не скрипит, не шумит, не дышит. Только этот момент. И ложка.
И Марета.
Она глотает.
Горло дёргается. Лицо сначала стягивает – будто боль не отпускает. А потом – отпускает.
Чуть-чуть. Но заметно.
Вдох – первый за много дней.
Слышно, как воздух врывается в лёгкие. Сначала неровно, с хрипом. А потом мягче.
Спокойнее.
Веки дрожат, будто колеблясь – стоит ли возвращаться.
Открываются.
И за ними – свет. Настоящий.
Не больничный. Не унылый.
А живой. Как от окна, которое забыли закрыть, и утро само пришло на кухню.
– Ох ты ж, лисёнок, – шепчет Марета.
Голос – тонкий, еле слышный. Но не слабый.
Как дыхание на стекле. Тёплое, неуловимое, но настоящее.
– Ну и вид у тебя…
Улыбка расправляется на её лице.
Тихо, незаметно, сквозь морщины – но такая, что становится теплее.
Как будто где-то включили лампу под абажуром.
Алиса смеётся. Хрипло. Не потому что весело – просто этот звук выходит.
И он – живой.
– Не выспалась, – выдыхает она. Голос будто выструган наждаком, но звучит.
И этого – достаточно.
Марета поднимает руку. Сухую, лёгкую, как осенний лист, только не ломкую. Прикасается к её лбу. Касание – лёгкое, невесомое, но в нём – всё. И забота, и усталость, и последняя нежность, которую таила годами.
– Всё теперь… всё хорошо, – шепчет она.
Словно всё это время несла что-то тяжёлое, и только сейчас позволила себе поставить.
Они лежат рядом.
Смотрят в потолок.
Трещина – больше. И она уже не просто трещина. Она – дорога.
Как маршрут. Как ветка.
Как путь домой.
Свет ползёт по стенам, как кот, ища тёплое место.
Где-то на кухне капает вода – равномерно, как тиканье часов.
Как сердце, которое ещё не решило – останавливаться или идти дальше.
– Уедем, – говорит Марета. Голос тихий, как сон.
– Куда? – шепчет Алиса.
– Да хоть к морю. К большому, шумному. Там чайки. Ветер. Там их нет.
– Там холодно.
– Ну и пусть. Но там никто не скажет – "ведьма", "дочка той"… Там только мы.
Марета поворачивает голову. Щека ложится в подушку, морщины на лице становятся похожи на складки старой карты. Карты, по которой уже прошли, но всё ещё помнят путь.
– А как помру… развей меня. На гору. Над морем.
Чтоб ветер был. И чайки. И небо.
И чтоб ты не плакала. Только жила.
Поняла, рыжик?
Алиса молчит.
Но внутри – не страх. Не пустота.
Только лёгкость. Как после ливня, который всё вымыл.
Как будто камень вынули.
И осталось место. Для дыхания.
Марета напевает. Слова сбиваются, голос хрипит, мелодия скачет.
Но в этом – дом.
В этом – она.
– Всё хорошо, лисёнок… всё хорошо, – шепчет она.
Алиса закрывает глаза.
Не от усталости.
А потому что теперь можно.
Можно – не сторожить, не бояться, не держать.
А Марета…
уходит.
Не прощаясь.
Но с улыбкой.
Как будто просто вышла за соль.
Глава 7
Что было дальше – как в воде.
Мутно, глухо.
Слова врачей – словно услышанные сквозь стекло в аквариуме:
– Еле успели…
– Ещё бы день…
– Температура сорок…
– Организм истощён…
Больница была белой.
Слишком белой, как середина зимы без солнца.
Капельницы, шуршащие халаты, перекидывание карточек из рук в руки.
Окна – мутные.
Снег за ними – серый.
Между сном и просыпанием – нет разницы.
Была только рука, которую кто-то раз в день держал чуть дольше положенного. Может, санитарка. Может, во сне.
Она выкарабкалась. Не сразу. Не уверенно.
Не как героиня.
А как тот, кто не знает, зачем вернулся, но оказался – здесь.
Кремация прошла… как бывает в местах, где нет ни традиции, ни желания помнить.
Без речи.
Без венков.
Без знакомых лиц.
Один старик, спутавший расписание.
Одна вдова, сказавшая "светлая память" не туда.
И трое, что пришли из жалости – не к Марете, к себе.
Служба была короткой.
Священник читал по бумажке. Бумажка ускользала из пальцев, ветер шевелил края,
словно перелистывал страницы давно забытой книги, где уже никто не узнаёт имён.
Печка включилась с лёгким гудением.
Как трамвай на конечной.
Без надрыва.
Без обещаний.
Ворон на крыше смотрел сверху, как бухгалтер.
Подсчитывая, кто остался.
На выходе кто-то споткнулся, ругнулся – слишком громко.
Никто не сделал замечания.
Никто не заплакал.
Город жил дальше.
Как умеет.
Механично.
Плавно.
Хлеб подорожал.
На перекрёстке в очередной раз обвалилась крыша.
Газетный киоск выставил номер с заголовком:
«Сенсация! Миссис Пемброк выиграла в бинго».
Дети кидались снежками у сгоревшей трансформаторной будки.
Ветер носил пустую обёртку от конфеты,
и голубь, не зная, что рядом пепел, устроился прямо на перилах —
согрел лапы, потоптался,
встряхнул крыло.
Прошло шесть дней.
А может, больше.
Время – как варенье, выкипевшее до тягучей корки.
Никакой хруст. Только липкость.
Каждое утро начиналось одинаково.
С треска масла в сковородке. Ровно в 7:30.
Это не Алиса готовила – соседка. Но звук пробивался сквозь щели в полу.
Как напоминание, что кто-то всё ещё ест. И дышит.
Весь день тянулся, как клубок из ваты:
тепло, но глухо.
А заканчивался одним и тем же:
Алиса лежала на кровати,
смотрела в потолок
и следила за трещиной.
Раньше она просто шла поперёк.
Теперь – раздваивалась.
Ответвлялась.
Словно предлагала маршрут.
Не вверх.
Не ввысь.
А дальше.
И Алиса, ещё не решив – идти или остаться,
всё равно смотрела.
Каждую ночь.
До тех пор,
пока не наступала
тишина.
Книга лежала там же, где и в день прощания.
На подоконнике, под пледом.
Алиса не прикасалась к ней. Не подходила.
Она мыла посуду, заваривала чай, развешивала полотенца – всё рядом, всё мимо,
словно это была не книга, а гость, с которым не знала, как заговорить.
Иногда взгляд сам срывался в её сторону.
Особенно утром, когда солнце пробиралось сквозь узкие щели ставен, ложилось косой полосой на переплёт.
Кожа обложки тогда казалась живой.
Дышащей.
Как у спящего, который вот-вот откроет глаза.
В те часы Алиса сидела у плиты.
Пекла хлеб.
Просто так, без нужды.
Хлеб выходил странный – с корочкой, как у кекса, и сердцевиной, как у ваты. Но пах – по-настоящему.
Мука, соль, немного тмина. В доме сразу становилось теплее, будто кто-то разложил угли под стенами.
И запах держался. Даже ночью.
Она готовила супы – простые, как в детстве.
Картофель. Морковь. Лавровый лист.
Чистила лук и не плакала.
Теперь уже не от сдержанности, а потому что всё выплакала – в чай, в одеяло, в подушку, в себя.
Один раз книга упала.
С полки – вниз.
С глухим, очень живым звуком, как будто обиделась.
Алиса подошла.
Просто вздохнула, подняла, положила обратно.
Руки дрогнули – не от страха. От чего-то иного. Как будто кожу книги она знала. На ощупь. Изнутри.
Словно это была не книга, а кость. Её собственная
Утро Алиса стояла у окна. Пальцы держали край занавески, словно хотели отодвинуть не ткань, а всё, что происходило за ней – улицу, машины, равнодушие.
Музыка с трубы потихоньку стихла. Последние ноты дрожали в воздухе, будто не хотели падать.
Она не смотрела в сторону Книги, но знала, где она. Знала, как лежит – ровно, тихо, почти смиренно, как человек, который давно не дышит, но ждёт, чтобы к нему подошли. Не требовательно, а с доверием.
Алиса подошла к полке. Остановилась. Не брала Книгу сразу. Поставила чайник, насыпала в заварник смесь – чёрного крупнолистового чая с шалфеем, щепоткой гвоздики и апельсиновой кожурой. Привычный запах дома, когда в нём ещё жили двое.
Она нарезала хлеб. Тот, что пекла – от нечего делать, чтобы руки чем-то были заняты. Сломала корку, бросила пару ломтиков в миску для уличной кошки – та всё равно приходила каждый вечер, как проверка: всё ли здесь по-прежнему.
Книга лежала там же. Не открытая. Не забытая. Просто… терпеливая.
Алиса наконец села. Положила руки на стол. Подняла взгляд. И тогда только поняла: за последние дня её ни разу никто не назвал по имени. Не спросил, не позвал, не окликнул. Впервые она не знала что это за чувство радоваться или грустить.
Она достала Книгу. Переложила на колени.
Полистала. Медленно. Как если бы трогала чужие письма.
Первая страница уже знакома:
"Ты хочешь исцелять других, не прожив своё?" – будто нависла, как табличка над дверью в другое пространство.
Но теперь взгляд сам нашёл следующий разворот.
Тот, что раньше был закрыт.
Теперь так же не открывался.
Ждал момента.
Когда в дверь постучали, Алиса вздрогнула.
Рука сама потянулась к платку на столе, будто собиралась открыть – и спрятаться.
На языке вертелось имя: Марета?
Но оно не сорвалось. Замерло, как пар на стекле.
На пороге стоял Баристер Троллоу.
Всё в нём было таким же, как в тот день:
пальто цвета дождя,
ботинки – будто только что отполированы,
лицо – безупречно вежливое, как шлифованный камень,
папка подмышкой – аккуратная, как надгробная плита.
Он не вошёл – проник,
словно сквозняк:
бесшумен, прохладен, неуместен.
– Мисс Гриде, – произнёс он, и голос его прозвучал, как щелчок запертого ящика. – Завещание номер два. Составлено, заверено, вступило в силу.
Он прошёл в кухню,
не снял перчаток.
Папку положил на стол с точностью,
будто ставил камень —
не чтобы украсить,
а чтобы утяжелить.
– По распоряжению покойной вам передаётся жилое помещение, транспортное средство – Chevrolet 1946 года, ухоженный, но пожилой, – и определённая сумма на утилизацию тела, оформление праха и текущие нужды. Здесь подпись. Здесь дата. Инициалы – вот.
Его движения не были скованными.
Но и живыми – тоже.
Он двигался, как человек, который делает это каждый день:
заверяет чужую смерть.
Без личного участия, без тени памяти.
Алиса не спорила.
Взяла ручку, расписалась.
Чернила дрогнули,
но рука – осталась прямой.
Будто подписывала не документ, а отказ от ещё одного будущего.
Он повернулся к двери, и, возможно, всё закончилось бы на этом —
но она вдруг сказала, почти шёпотом:
– Вы знаете место… высокое… тёплое. Где море видно. Где можно развеять… прах.
Он замер.
И вдруг – что-то изменилось.
Только на мгновение.
Как будто в нём сыграла внутренняя пружина, от которой он давно отвык.
Он не улыбнулся, не вздохнул —
просто ответил. Спокойно, но уже иначе:
– Есть. Не обещаю высоты… Но соль в воздухе там есть. И чайки.
Когда-то… было тепло.
Добраться можно машиной – она теперь у вас. Через Льюкс, потом на Шель. После – Керро, Гастов, Ла-Мер… Путь кривой, но живой.
Горы лучше обойти. Там случаются оползни. Раньше случались.
Он шагнул к выходу,
уже взялся за ручку,
но вдруг… вернулся.
Подошёл.
Потянулся к её плечу —
и накинул шарф. Свой.
Жест был неловким, сухим, почти официальным.
Но в нём что-то сдвинулось.
Чуть-чуть.
Как если бы надгробие вдруг покрылось плесенью – живой.
– Лучше не мёрзнуть, – Путь длинный.
Он больше ничего не добавил.
Но у двери задержался.
Пальцы дотронулись до косяка – неуверенно, как будто искали точку, с которой можно начать заново.
А потом он ушёл.
Просто ушёл.
На кухне пахло чаем, который так и не заварили.
Кастрюля стояла на плите, с холодной водой.
Кот не ел со вчерашнего.
А за окном кто-то играл на трубе. Несмело, будто вспоминал мелодию,
которая раньше звучала лучше.
Музыка не звалась – она просто была.
Как голос, который не нужен, но которого не хватает.
Город за окнами выглядел так,
словно всё происходящее внутри дома —
не касалось его вовсе.
Люди несли пакеты, спорили на перекрёстках,
обсуждали новые цены, на уголь и никто не поднимал глаз к этим окнам.
Алиса смотрела на комнату, на вещи, на стол.
Но вот – настало.
И внутри Алисы шевельнулось то, что она не могла назвать:
не долг, не страх,
а может, просто…
следующее дыхание.
Она подняла глаза на трещину в потолке.
Та всё ещё напоминала маршрут.
Только теперь…
в конце линии она ясно видела дорогу.
Глава 8
Утро было тусклым, с еле заметным инеем на карнизе – словно март сомневался, стоит ли быть весной. Воздух пах сыростью, камнем и железом, будто сам город дышал через зубцы решёток.
Гараж долго стоял закрытым.
Не как место – как капсула.
Туда не входили, туда возвращались.
Молчание за дверью было таким плотным, что Алиса задержала дыхание, прежде чем дёрнуть за ручку.
Скрип – тихий, но будто вырванный из чужого сна. Дверь поддалась. В нос ударил запах – не бензина, не масла. Пахло застоем, пылью, глушённым временем. Как от одежды, которую никто не надевал с похорон.
Она вошла.
Шаг – нерешительный.
Пыль кружилась в свете, как будто воздух сопротивлялся.
Машина стояла посреди, как старая корова в хлеву: массивная, уставшая, почти живая.
Chevrolet Fleetmaster 1946 года.
Когда-то – гордость. Теперь – чёрная туша, покрытая плёнкой времени.
Металл был в мелких пятнах, как руки стариков. Стёкла – мутные.
А внутри – пустота. Почти страх.
Алиса подошла.
Села за руль.
Он казался больше, чем она помнила. Или она – меньше.
Ключ – в кармане. Пальцы сжались.
Щелчок. Пусто.
Щелчок. Ещё.
Тишина после попытки – унизительная.
Как если бы она хотела заговорить на чужом языке и не знала ни одного слова.
Сняла пальто. Подтянула волосы.
Подошла к капоту.
Пахло тяжёлым железом.
Как запах старых ключей в кармане отца.
Она слышала его голос. Не слова. Интонацию.
"Руки у тебя для листов и травинок, а не для машины."
"Машина не любит нерешительных."
"Если дрожишь – не подходи."
Он не учил. Он делал.
Она – смотрела.
Иногда – кралась в тень. Иногда – запоминала.
Свечи – вот они. Ржавчина скребёт по металлу. Пальцы дрожат.
Фильтр – зарос пылью. Масло – чёрное, вязкое, как старая обида.
Канистра в руках – будто мешок с камнями. Наливает. Чуть проливает.
Волосы липнут к виску.
Бензин садится в нос, как страх.
Но она не отступает.
Полдень пришёл без стука.
Он не заявлялся, как гость, – просто стал воздухом. Расплылся по крышам, стекал по стенам, прятался в трещинах кирпича.
Внутри гаража было душно – как под простынёй, которую забыли снять с больничной койки.
Свет падал косо, пробиваясь через выбитое окно, и рисовал на полу пятна, будто кто-то рассыпал старые слайды.
Алиса стояла у капота.
Рука в масле.
Волосы прилипли к виску.
Ногти в пыли.
На щеке – сажа, тёплая, как старая рана.
Она работала, как могла – неуверенно, местами слепо, больше по интуиции, чем по опыту.
Инструкция была где-то. Но в ней – не было отца. А в памяти – были.
«Начни с тормозной. Если не держит, всё остальное – напрасно»,
– говорил он, не глядя.
И вот она, как могла, откручивала бачок, протирала соединения, искала пузырь.
Сомневалась в каждом движении, но всё равно делала.
Потом – провода.
Как сосуды. Как старые нервы.
Контакт – вроде бы есть, но не до конца. Чуть-чуть не дожата клемма – и всё глохнет.
Алиса перепроверяла. Вновь и вновь.
Словно машина – это сердце. И надо его слушать.
«Сцепление не прощает»,
– шептал отец когда-то.
И её ладони теперь проверяли трос, как будто это была верёвка, по которой она спускалась с обрыва.
Каждое движение давалось не потому, что она умела – а потому, что не могла позволить себе не попробовать.
Машина молчала.
Она не заводилась.
Но уже дышала. По-своему. Глухо, тепло, под капотом.
Как старый зверь, которому дали воды.
Где-то вдалеке – щелчок.
Мгновение паузы.
И в эту тишину – сквозняком, сквозь бетон, через трещины в рутине – музыка.
Тихая. Из окна, из проигрывателя, может, из прошлого.
Голос – женский.
Усталый. Слегка прокуренный.
Он не пел – он говорил, как кто-то, кто умеет молчать рядом.
“Something Cool…”
Труба лениво ложилась на рёбра дня.
В ней не было драмы.
Только тоска.
Смирившаяся. Живая. Такая, что становится почти уютной.
Алиса замерла.
Рука со щёткой застыла.
Сердце сжалось не от страха – от того, как звучит тепло, когда его больше не ждёшь.
В груди всё разом стихло.
Руки опустились.
На секунду – не было ни машины, ни инструмента, ни гаража.
Был только голос. Музыка. И… её мать. Почему-то.
«Марета слушала что-то похожее», – подумала она.
«Нет, не слушала. Напевала. Носом. Когда готовила. Когда болела. Когда жила.»
Алиса вернулась к мотору.
Проверила свечи ещё раз.
Подтянула ремень генератора.
Капот закрыла – медленно, с нажимом, как книгу, которую не дочитали, но поняли.
Пауза.
Пальцы – на ключе.
Оборот.
Стук.
Щелчок.
И —
кашель.
Звук, как после долгой зимы.
Но потом – шорох. Вдох. Вибрация.
Железо оживает.
Алиса не радуется.
Просто кивает.
Как будто договорились.
Вечер опустился на город мягко, как одеяло после стирки – с запахом ветра, солнца и чего-то чистого.
Небо выцвело в оранжево-дымчатые полосы, а облака – будто плыли медленнее, давая Алисе время выдохнуть.
Гараж дышал металлом и теплом. Не от лампы – от того, что всё заработало.
Внутри пахло не маслом и мазутом, а победой, которую нельзя потрогать – только почувствовать.
Алиса стояла у машины, вся в пятнах, в пыли, с лохматым пучком и разводами под глазами – но смотрела на Chevrolet как на живое существо.
Словно оно приняло её. Простило. И впустило в свой мир.
Капот захлопнулся с тяжёлым, уверенным звуком – как если бы кто-то сказал:
«Теперь всё по-настоящему».
Алиса села за руль.
Ключ – в замке. Поворот.
Мотор не сопротивлялся. Даже не хрипел. Просто – завёлся.
Словно ждал её. Только её.
Звук был ровным. Глубоким.
Не как у машины, а как у сердца, которое перестало бояться биться.
И тут – радио.
Треск. Щелчок. Музыка.
“Blue in Green.”
Медленная. Уверенная.
Как шёлк. Как голос, которого долго не слышала.
Как песня для души, а не для ушей.
Алиса засмеялась. Тихо.
Но не сдерживаясь.
Не от шутки – от того, что выжила. Что смогла.
Что смогла САМА.
Смех был тёплый, немного хриплый – но живой.
Он наполнил гараж, лёг на капот, вплёлся в музыку.
Как будто всё вокруг – наконец – стало своим.
Она обняла руль.
И впервые за долгое время – не от усталости, а от гордости.
От того, что всё сделано. И всё впереди.
Музыка плыла. Мотор гудел. Воздух дрожал.
И в этом всём была не просто тишина – была жизнь.
Своя. Живая. Настоящая.
Алиса вытерла лоб рукавом, глянула на солнце, которое уже садилось за дальний дом.
На губах всё ещё играла улыбка.
Та, которую ни выучить, ни подделать.
– Ну хоть аккумулятор жив…
Дом не спал. Он не шумел, не вздыхал – просто ждал. Как будто знал, что сегодня последняя ночь, и хотел сохранить всё, что в нём ещё оставалось.
Алиса прошла по комнатам на цыпочках. Ноги в шерстяных носках почти не касались пола.
Шарф на шее – слишком тугой. Пальцы сжимали фонарь, но она не включала его. Свет сейчас был бы лишним.
В кухне по-прежнему пахло укропом и тмином. На подоконнике – кружка, в которой осталась тонкая корочка чая. Плита давно остывшая, но запах поджаренного хлеба всё ещё висел в воздухе, как воспоминание, не успевшее выветриться.
На столе стояла урна. Простая. Серая. Без надписи. Рядом – старая солонка, которую Марета когда-то подложила вместо пресса для бумаги. Алиса поставила урну ближе к краю, прикрыла крышку ладонью и сказала почти шёпотом:
– Поехали, хорошо? Только без театра.
Она собрала вещи молча.
Рубашку.
Свитер.
Аптечку.
Письмо.
Деньги.
Банку с настоем.
Всё привычное – но в руках казалось чужим. Книга была завернута в старую пелёнку – ту самую, которой они когда-то накрывали клетку с больной птицей.
На выходе Алиса остановилась. Смотрела на порог, как на грань. Не дверь – границу. Дальше уже не будет тапочек у кровати, запаха сдобы по утрам и тихого бормотания Мареты по вечерам. Всё это – останется в этих стенах.
Она вышла во двор.
Гравий под ногами был влажный. Каждое движение отдавалось в коленях, как будто земля не хотела отпускать. Машина стояла у ворот, слегка наклонившись – будто прислушивалась.