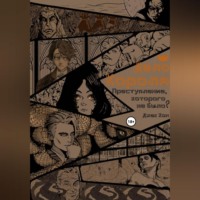Полная версия
Книга Соль
“Вернуть по крови. Передать по памяти.”
Он отступил.
Как от алтаря.
На миг – Алисе показалось: он перекрестился.
Или просто провёл пальцами по воздуху.
Как по старой ране.
– Теперь она ваша.
Он ушёл.
Тихо.
Без щелчка двери.
Не обернулся.
Как функция. Как смерть, которая выполнила формальность.
Алиса осталась.
Села обратно. Очень медленно.
Словно снова училась быть телом.
Быть в комнате.
Быть здесь.
Книга лежала перед ней.
Тёплая.
Живая.
Молчаливая.
Как лоб матери
в её последние минуты.
За окном начинался снег.
Не сильный – тот, что ложится в тишину.
Тот, что укрывает, а не пугает.
Тот, под который можно молчать.
Она не брала книгу в руки.
Просто сидела рядом.
Смотрела, как в чашке остывает чай.
Как тень от лампы ложится на край страницы.
Как ночь, наконец, не требует ничего.
Так прошёл вечер.
Так прошла тьма.
Без слов, без огня, без обещаний.
Следующее утро пришло не сразу.
Сны выливались из головы, как вода из решета: что-то скреблось, что-то шепталось, кто-то тихо плакал – может, она сама.
Но солнечный луч, пробившийся сквозь занавеску, растопил остатки ночи.
Остался только осадок – глухой, как после настоя, в котором листья были слишком стары, а вода – чужая.
Алиса села в кровати.
Всё ещё в ночной рубашке, босиком.
Пол был прохладный, но не кусался.
Она не торопилась.
Тело казалось чужим – будто его только что вернули из долгого сна.
Руки двигались медленно. Но двигались.
На кухне было прохладно.
Плита – холодная, но послушная. Она щёлкнула, вспыхнула, будто знала: хозяйка снова дома.
Зажгла огонь. Поставила чайник.
Достала хлеб – вчерашний, но ещё пахнущий закваской.
Нарезала – тонкими ломтями, под углом, чтобы корочка хрустела дольше.
Обжарила на сухой сковородке.
В воздухе потянуло теплом, будто проснулся старый камин.
Мёд – жидкий, янтарный. Из баночки с трещиной по боку.
Масло – солоноватое, тянущееся, мягкое.
Аромат пополз по кухне, как кот: уверенно, лениво, вальяжно.
Чайник свистнул.
Она бросила в чашку три щепотки: мята, зверобой, чабрец.
Накрыла блюдцем. Пусть настоится.
Пока трава отдавала силу воде, она села у окна.
Там лежал свет. Мягкий, как плед, и такой же нужный.
Вкус первого глотка – терпкий.
Вкус хлеба – родной.
Сладость мёда – как обещание, что мир не совсем забыл быть добрым.
Она ела медленно.
Не хотелось, чтобы момент кончился.
Книга лежала на столе.
Алиса не спешила к ней.
Пускай ждёт.
Сейчас – чай.
И хлеб.
И солнце.
Сначала – пальцами.
Медленно, почти ласково, будто уговаривая.
Потом – ногтем. Осторожно. Потом – с нажимом.
Нож. В корешок. Между страниц. Порывисто.
Топор – сперва несмело. Потом – со злостью.
Молоток. Наждак. Кипяток.
Бесполезно.
Ни царапины.
Ни шороха.
Как будто не бумага, а чёрный камень. Заколдованный.
Как будто плоть отказалась признавать её живой.
В груди – не любопытство. Ярость.
Глухая. Упрямая. Наследственная.
Мать ушла – оставив не утешение, а загадку.
Или ловушку.
Целительница?
Ведьма?
Женщина, которая не знала, как быть матерью?
Алиса поднялась.
Пошла к печи.
Нашла последние сосновые угли.
Во дворе лежал снег.
Аккуратно выложила угли. Словно всё ещё боялась – не книги, а себя.
Сверху – треснувшее стекло, чтобы не задохнуться пламенем.
Раздула. Подожгла.
Дым – пошёл.
Пепел – лёг. Белый.
Как прах. Как пепел костей.
Но книга…
Лежала.
Целая.
Чёрная. Даже не нагрелась.
Как будто даже огонь – отвернулся.
– А если просто выкинуть? – сказала Алиса.
Голос – глухой, не её.
Как будто из другого рта. Из зеркала.
– Никто не узнает, что в ней. Никто не прочтёт. Значит…
И бояться нечего, да?
Выкину.
Всё.
Конец.
В этот момент с улицы донёсся визг тормозов.
Металл. Гудок. Треск.
Резкий. Без предупреждения.
Скорая остановилась у дома Мареты.
Словно смерть вернулась – что-то забыла, перепутала адрес.
Алиса подскочила.
Сердце сначала ударило в горло, потом – в пятки, потом исчезло вовсе.
Она сдёрнула плед с колен – босиком.
Тапки так и остались у костра.
Не стала искать.
Не стала думать.
Выскочила.
Снег жалился, но до неё не доходило.
Кожа не чувствовала.
Мысли не догоняли.
Она не знала, зачем бежит.
Проверить?
Сбежать?
Просто?
Ветер поднялся, подхватил пепел.
Он кружился над землёй – как снежная крупа, как мысли, которые не словить.
И тогда книга открылась.
Сама.
Без рук.
Тихо.
Как будто ждала именно этого: испуга, ветра, бега.
Как будто её нужно было не читать – а заслужить.
Первая страница – жёлтая, смятая.
Почерк – крупный, резкий, как если бы писали в лихорадке.
Бурые чернила. На полях – зарубки. Счёт.
В центре – пятно.
Слеза.
Ты хочешь исцелять других, не прожив своё?
Не вопрос.
Приговор.
Исповедь.
Книга не учила.
Она не просила.
Она присягала.
Она ждала.
Она говорила:
Ты готова?
Алиса не знала.
Но уже слушала.
Глава 5
Марета умирала.
Не сразу. Не тихо. И не как положено.
Это было не похоже на книжный уход – без света, без прощаний, без того, что называют «миром».
Она не гладила по волосам, не шептала напоследок.
Она боролась.
Как зверь в ловушке, которому никто не обещал справедливости.
Судороги приходили волнами, ломали спину, крутили шею.
Пальцы сжимались в кулаки, как будто от этого зависело что-то большее, чем просто боль.
На губах – ни стона. Ни проклятия. Только крепкий, внутренний зажим.
Во рту – всего четыре зуба. Но этого хватало, чтобы удержать крик внутри.
И в этих глазах, воспалённых, тусклых, всё ещё жила одна последняя слеза,
которая не вытекала,
потому что некому было видеть.
Вены – тугие, проколотые.
Кожа – пылающая, натянутая, как холст, по которому больше нельзя писать.
Обезболивающее сгоралось в ней так же быстро,
как снег, брошенный в горящий уголь.
Врачи приходили без слов.
Смотрели, записывали, делали вид, что всё ещё борются,
но глаза у них уже были пустыми.
Запах спирта оставался в комнате дольше, чем они сами.
И вместе с ним – тишина.
Глухая.
Окончательная.
Та, после которой не спрашивают: «ну, как она?»
Алиса не плакала.
Она делала.
Как могла.
Скользила по дому босиком, в одной рубашке,
от шкафа к шкафу, от банки к ступке,
перевирая старые рецепты,
путая названия трав,
вспоминая мамины слова так, будто они были заклинаниями.
Руки – в порезах. Плечи – в огне.
Но она всё ещё надеялась, что что-то поможет.
Что не всё потеряно.
И когда стало ясно, что дом – это уже не место спасения,
а только оболочка,
она пошла в город.
Улицы были тихими, как перед обрушением.
Под подошвами – не снег.
Пепел.
Пепел чьих-то слов.
Чьих-то обещаний.
Алиса шла мимо домов,
в каждом из которых кто-то когда-то пил настой её матери,
в каждом – чья-то жизнь висела на нитке,
и Диана её удержала.
Она помнила этих людей по голосам. По запаху.
По их клятвам, сказанным в полутьме кухни:
«Если что – я за неё. Хоть в огонь, хоть в омут».
Теперь – не дверь, а прищур.
Не слова, а тихий скрип половиц.
Замки щёлкали, не успев открыться.
– У нас ничего нет.
– Бог сам решит.
– А что вы хотели? Неофициально ведь всё было…
– Может, дырку в крыше у неё сделаем, – сказал кто-то, и засмеялся, как свинья, хрюкнув луковым дыханием.
Это был тот, кого мать вытянула из горячки.
Он теперь стоял, жуя всухомятку, и даже не поднимал взгляд.
Просто повторял внутри себя:
«Меня это не касается».
Женщина, чей ребёнок заорал на третьей минуте жизни,
теперь говорила:
– Ты бы сама-то подумала…
– Всякое случается.
Пара, что ставила свечи под иконы с её именем,
теперь жгла ладан от сглаза,
прятала сына,
и, не глядя, объясняла:
– Всё ушло на похороны. И вообще… зима.
– Мы бы рады, но сами понимаете…
И всё это – без злобы.
Без громких слов.
Просто – вымыто.
Как будто Диана была не человеком,
а пятном, которое они наконец оттёрли.
И всё же в этой пустоте было одно лицо.
Старуха в жёлтом платке.
Та самая.
Стояла у закрытой аптеки, как будто знала: Алиса будет идти мимо.
Пахла – тмином, укропом, детской присыпкой и терпением.
Говорила негромко, как говорят те, кто давно понял: не всем нужно кричать, чтобы их услышали.
– Девочка, возьми, – и положила ей в ладонь свёрток.
Небольшой. Тёплый. Сухой.
Запах – леса. Дыма. Печи. Забытого лета.
– Не от боли. От страха.
– Может, не поможет.
– Но ты скажешь себе: попробовала всё. И будешь права.
Алиса взяла.
Без слов. Без благодарности.
Просто кивнула.
И это было достаточно.
Старуха растворилась в людском потоке,
оставив за собой пятно жёлтого —
не яркое, не ослепляющее,
а такое, которое долго не выцветает.
Как свет,
что не обязан гореть,
но всё равно остаётся.
Ночь, в которой всё сошлось
И вот – ночь.
Длинная, ледяная, не терпящая звуков.
Та, что прикасается к коже, как плеть, и оставляет на ней не синяки, а память.
Луна висит низко, как фонарь на допросе: светит прямо в лицо, без жалости, без намёков.
Под ногами скрипит снег – не тихо, не мягко, а с обидой, будто устал нести её следы.
Алиса возвращалась домой.
Не шла – плелась, не от усталости, а от пустоты.
Внутри всё было выжжено: ни слёз, ни гнева, ни остатка надежды.
Только тело двигалось по инерции, потому что остановка означала одно – осознать, что всё позади.
Во дворе, в углу, где снег перемешан с золой, лежала Книга.
Та самая, неподдающаяся ни силе, ни огню, ни молитве.
Теперь она не сопротивлялась – просто лежала раскрытая, как будто сама знала,
что всё закончится здесь,
в этом доме,
в этой точке.
Алиса остановилась перед ней.
Не удивилась, не испугалась, не попыталась понять.
Ей больше не нужно было понимать.
Она просто стояла, и ветер трепал подол рубашки, а ночь казалась такой звенящей, что любое слово могло бы сломать тишину.
Первая страница – выцветшая, как старая бумага, что хранилась в сыром подвале.
Почерк крупный, неуверенный, будто руку сжимала лихорадка.
В самом центре страницы – тёмное пятно, оставшееся от слезы.
Высохшей. Но будто всё ещё тёплой.
«Ты хочешь исцелять других, не прожив своё?»
Это не был вопрос к разуму.
Это был вопрос, которым задевают внутренности – не чтобы получить ответ, а чтобы узнать, остался ли у человека голос.
Алиса медленно выдохнула.
В воздухе потянулся пар – тонкий, как шепот.
– Да… – сказала она.
Тишина будто опустилась ниже, стала плотнее, как вода, в которую бросили камень.
Книга ответила шелестом.
Страницы начали переворачиваться сами – не резко, а с достоинством.
Как старые листья, шевелимые ветром перед первым снегом.
И остановились.
На второй странице.
РЕЦЕПТ I: СУП ПАМЯТИ
Для тех, кого гложет боль.
Для тех, кто хочет исцелить другого, но готов пронести через себя чужой пепел.
Состав:
• Чёрный лук – растёт в тени. Его вкус – горечь, его сила – очищение.
• Красное вино – не свежее, выдержанное. В нём терпкость утраты и след времени.
• Пепел любимого – не прах, а символ: обугленная ткань, письмо, локон, обрывок – всё, что помнит.
Способ приготовления:
Нарезай лук – и не сдерживай слёз.
Пусть капают в котёл.
Становятся частью настоя.
Вино – не кипятить. Только томить. Медленно. Как сердце, которое скорбит.
Пепел добавь последним – на шёпоте.
Никаких слов вслух. Только дыхание.
Пока варится – вспоминай.
Её лицо.
Её голос.
То, как она молчала.
Говори.
К себе.
К котлу.
К тем, кого нет.
Молчание убивает медленнее, но вернее, чем боль.
Настой:
Настаивать три ночи.
Хранить рядом.
Спать с ним.
Первую ложку – только на первый день, для себя.
На третий день – одну ложку. Не больше.
Цена:
Ты примешь её боль.
Каждую судорогу.
Каждую мысль, которую она не высказала.
Каждый страх, который она не преодолела.
Ты проживёшь это.
День за днём.
Если не выдержишь – зелье сгорит внутри.
Вместе с тобой.
Дом был пуст.
Пуст не тем, что без людей —
а тем, что в нём ничего больше не звучало.
Даже ветер, даже скрип, даже мысль.
Алиса вошла без звука.
Не разулась. Не заглянула в зеркала.
Сама тишина обняла её за плечи —
не как утешение,
а как старая, затаившаяся боль.
На кухне – полумрак.
Сквозь щели ставен проникал лунный свет – блеклый, ломкий, будто отражённый от льда.
Он ложился на пол узором – как сеть.
И казалось: стоит шагнуть – и захлебнёшься молчанием.
Алиса не зажгла свечу.
Просто подошла к плите, поставила котёл, взяла нож,
достала луковицу.
Фиолетовая, с тонкими прожилками.
Как вены. Как те, что вздуваются на руках, если сжать их слишком крепко.
Она резала быстро.
Не из злости. Из знания.
Так просили. Так надо.
Слёзы пришли сразу.
Не от лука. Не только.
Они были ближе, чем ожидалось.
Готовы. Ждали.
«Режь, не сдерживаясь.
Слёзы – часть снадобья.»
Алиса не вытиралась.
Пусть текут.
Пусть впитываются в дерево стола.
Пусть падают в котёл.
Пусть будут услышаны.
– Она смеялась, когда мыла полы, – сказала тихо. – Как будто не работала, а танцевала. Как будто знала, что под ногами – сцена, а не плитка.
Капли срывались с подбородка.
Они не щипали.
Они растворялись.
– Напевала «Зелён ли лес». Фальшиво. Всегда. А я злилась.
А теперь…
теперь бы всё отдала.
Просто чтобы снова услышать этот фальшивый припев.
Вино – старое, чёрное, терпкое.
Она влила его медленно.
Тонкой, тонкой струйкой.
Жидкость шипела, но не закипала.
Будто прислушивалась.
«Пока варится – вспоминай.
Говори.
Не молчи.
Иначе – не сработает.»
– Чай наливала до половины. «Ангелам тоже место нужно».
– Карманы подшивала в изнанку – «Платки ближе к сердцу».
– Ставила стакан воды на подоконник – «Для деда. Пусть знает, что ждём».
– Пасхальные яйца – только синие. «Цвет неба. Его не купишь».
– А перед сном – кастрюля у кровати. С ложкой. «Чтобы смерть подумала, что я готовлю – и не торопилась».
Голос её дрожал.
Тихо. Редко.
Но пальцы были твёрдые.
Рука – точная.
Пепел. Последнее.
Маленький клочок ленты.
Почерневший, с выгоревшим краем.
Пах – как волосы после пожара.
Как память, что не затёрлась.
Она поднесла его к губам.
Шепнула.
– Прости.
И отпустила.
Клочок упал в котёл.
Жидкость будто вздохнула.
Не громко.
Но стекло в раме дёрнулось.
От сквозняка?
От чьего-то дыхания?..
Алиса опустилась на пол.
Не упала – села.
Прямо у плиты.
Колени к груди.
Руки – в объятии себя самой.
Слёзы уже не капали.
Они били.
Рвались.
Словно внутри что-то раскрошилось —
и пошёл дождь.
«Снадобье должно стать тобой.
Иначе – просто вода.»
Она вытерла нос рукавом.
Взяла ложку.
Накрыла котёл крышкой.
И осталась сидеть.
Слушать, как внутри всё медленно,
очень медленно,
начинает изменяться.
Три дня.
Каждую ночь – рядом.
Одна ложка – в первый вечер.
Не больше.
Иначе – яд.
А потом – не лечить,
а жить эту боль.
Носить в себе,
как рану.
Как слово, которое нельзя сказать,
но нельзя и забыть.
Если не выдержишь —
сгорит всё.
Не зелье.
Ты.
Глава 6
День первый. ДианаОна лежит.
И это всё, что известно.
Тело мокрое. Не от воды.
Жар сочится изнутри, пропитывает каждую ткань, каждый узелок, каждую нить под кожей.
Будто кто-то сварил её изнутри – и забыл выключить огонь.
Полотенце – под спиной.
Превратилось в мокрую вату.
Намоталось на лопатки, прилипло к телу, как вторая, не своя кожа.
Промокшая подушка шепчет: «Ты осталась».
А трещина в потолке – смотрит.
Кривая. Живая.
Как позвоночник матери.
Как линия, которой не должно быть, но она есть.
Где-то в углу комнаты – баночка.
Та, что была с ней на снегу.
Сейчас – в руке.
Холодная снаружи.
Горячая изнутри.
Она запотевает.
Как окна в доме, где больше никто не живёт.
Как глаза матери.
В последний раз.
Когда она смотрела, но не видела.
Алиса прижимает банку к груди.
Там – не лекарство.
Там – дыхание, в котором осталось чуть-чуть света.
Жар ползёт вверх.
Как паук по горлу.
Сплетает паутину мыслей.
И в каждом узле – имя.
Диана.
Дверь.
Она не открывается – она раздвигается, как занавес в театре, который больше никто не смотрит.
Диана входит.
Всё в том же пальто – сером, выцветшем,
с пятном на рукаве:
влажное.
Но не от дождя.
В руке – сумка.
Старая, как запах чабреца.
Из неё торчит пучок полыни, как язык.
Диана пахнет аптекой.
Пеплом.
Женской усталостью, которой больше никто не верит.
И тем, чего нет в книгах.
– Слёзы – не лекарство, – говорит она.
Голос не звучит. Он врастает в воздух.
– Кто плачет, тот не варит. Кто варит, тот не жалеет.
Алиса пытается ответить,
но рот слипся,
как страницы в старом блокноте.
Миска.
Диана ставит миску.
И ещё одну.
Потом кружку.
Потом маленькую рюмку.
Как будто накрывает на троих:
себе, Алисе… и той, кто ещё придёт.
Она раскладывает всё аккуратно.
Словно ещё будет учить.
Словно всё ещё можно исправить.
Глаза.
Глаза у неё пустые.
В них не прощение.
Не обида.
Даже не нежность.
Просто пустота.
Как выжженное поле.
Как срез корня – ровный, без крови.
И вдруг – воспоминание.
Волосы на подушке.
Целые пучки.
Голос – рвался, как нитка в швейной машине.
Ноги – отказались. Просто перестали быть.
А дыхание стало шёпотом.
Где-то за стеной.
Где-то не здесь.
Алиса не кричала.
Не звала.
Не просила.
Она умывалась.
Как после грязной работы.
Как будто можно смыть.
Как будто боль – это грязь.
Во рту – пепел.
Сухой.
Режущий.
Пальцы шарят по простыне.
Ищут банку.
Находят.
Крышка – шершавая. Родная.
Как язык матери.
Как приговор, от которого не спрятаться.
Она прижимает банку к сердцу.
Там горячо.
Но уже не от лихорадки.
Сон затягивается.
Как корень в землю.
Как нитка в кожу.
Как слово, которое больше не выговорить.
И в этом сне Диана не уходит.
Она стоит у плиты.
Поворачивает голову.
Смотрит.
Алиса не знает, дышит ли.
Не знает, проснулась ли.
Но точно чувствует —
Кто-то варит снадобье.
Там, где уже ничего не осталось.
Марета
После ночи Марета приходит в утреннем свете —
в том самом, где солнце только касается подоконника,
оставляя на нём золотые отпечатки пальцев.
Она не говорит – сначала просто смеётся.
Смех у неё простой, как хлеб,
тёплый, как шерстяные носки, забытые на печке,
немного сухой, немного влажный, но всегда настоящий.
Во сне они вместе стирают бельё.
Марета моет окна – затирает до блеска,
а потом с заговорщицкой серьёзностью показывает отражения,
как если бы это были картины:
– Смотри, тут ты добрая. А тут – упрямая.
А вот здесь… никому не говори, но я люблю эту.
Руки у неё пахнут хозяйственным мылом и парным молоком.
А голос – как берёзовый дым:
лёгкий, тёплый, въедливый. Такой, что остаётся в волосах надолго.
Снится кухня.
Большая, простая. Горшок с супом пускает редкие пузыри,
будто ленивая река после дождя.
Кошка на подоконнике тянется к тесту – воровато, осторожно.
– Не говори тесту, что оно лепёшка, —
шепчет Марета с улыбкой. – Пусть думает, что пирог.
Её лепёшки всегда были кривые, с подгорелыми краями,
но таяли во рту, как первый снег.
Не красивыми – домашними. Настоящими.
Марета не пела – она пробовала песни на вкус.
Коверкая слова, смешно, но честно.
Гладила кошку, ворча ей под ухо:
– Надо ласково. Даже с теми, кто шипит.
Алиса смеётся во сне.
По-настоящему. Тихо, почти детски.
На щеке – скользит слеза.
Но не от боли, а от того,
как тепло осторожно пробирается под рёбра.
Как котёнок, что ищет место поудобнее.
– Не гони тепло, лисёнок, —
говорит Марета,
– Оно и не просится дважды.
Её пальцы касаются лба Алисы —
сухие, но не колючие.
Тёплые, как свежеиспечённый хлеб.
Как утро, которое пришло – и не ушло.
Марета – это дом.
Не стены. Не крыша.
А запах подушки после долгого дня.
Скрип третьей ступеньки.
Кружка, забытая на столе —
молча говорит: «я вернусь».
– Я простила тебя тогда, —
шепчет она почти неслышно.
– Ты просто не услышала.
Сон уходит.
Остаётся —
остывший лоб, пот, тишина.
И банка, на краю стола,
чуть влажная, чуть прохладная,
словно хранила в себе кусочек того сна.
Где-то глубоко внутри
осталась шершавая нитка памяти,
крепкая, как та пряжа,
что Марета оставила в корзинке —
«на потом».
Как то «потом»,
которое так и не наступило.
Но которое всё ещё живёт —
в этом утре,
в этой щеке,
в этой тишине.
День третий. Город
Утро пришло мутным и неуверенным. Оно не светило – оно просто было. Оседало в комнате, как пар после долгой варки. Лоб казался холодным, будто кто-то приложил к нему мокрую тряпку, но под кожей всё ещё жило тугое, упёртое тепло, не уходящее ни от воды, ни от сна.
Алиса лежала, не двигаясь, глядя в потолок. Там, где раньше трещина напоминала спину матери, теперь расползалась тёмная полоса, похожая на беззубый рот. Он не шевелился, не говорил, но словно собирал в себя все слова, которые она не решилась сказать.
Сны были другими. В них не было лиц – только очертания, силуэты, не люди, а тени. Они шептали, медленно, вязко, как будто знали, что она не сможет их прогнать:
Такая же, как мать.
Марету даже не отпели…
Где твои травы теперь, ведьма?
Они не обвиняли – просто напоминали. Город продолжал жить внутри жара. Продавщица с рынка, будто явившаяся во сне, протягивала Алисе щепоть соли, но та рассыпалась в пепел. Мужчина в тёмной куртке – с лопатой, будто заранее знал, зачем она пришла. А детский смех за окном больше напоминал треск – не радость, а что-то резкое, неприятное, будто кто-то скребёт ножом по стеклу.
В доме пахло сыростью и телом. Стены стали чужими, тяжёлыми, будто впитали в себя всю усталость, страх и липкий запах застоявшегося воздуха. Даже банка – та самая, что ещё недавно приносила хоть тень облегчения – теперь больше напоминала сосуд, который не лечит, а питается. Стекло словно впитывало последние крупицы тепла из её ладоней, оставляя за собой только липкую пустоту.
Где-то внутри звучал голос. Не громкий, не резкий – просто утверждающий. Он не звал и не приказывал. Он говорил, как свершившийся факт:
Не выдержишь – сгорит. Вместе с тобой.
Алиса не спорила. У неё не было сил, чтобы возражать, не осталось слов, чтобы объяснять. Но она продолжала. Потому что выбора не осталось. Потому что Марета умерла бы окончательно – без следа, без памяти – если бы она перестала.