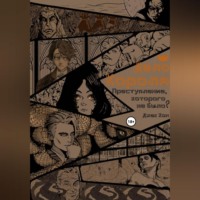Полная версия
Книга Соль

Джек Хан
Книга Соль
Глава 1
Ветер был солёный.
Как слеза, что долго не решалась упасть.
Море внизу – тихое, почти неживое, будто забыло, что умеет быть бурей.
Алиса стояла на вершине. Снег здесь уже растаял, но камни были холодные.
В руках – жестяная коробка, лёгкая, как пустота после слов «прощай».
В сумке – книга. Пустая. Страницы словно ждали.
– Ну вот, – прошептала она. – Дошла.
И разжала пальцы.
Прах исчез в воздухе – как дым. Как слово, не сказанное вовремя.
Море ничего не ответило. Оно никогда не отвечает.
А потом —
щелчок.
Хруст.
Как льдинка под каблуком.
Как кость, лопнувшая от времени.
Алиса вздрогнула.
Но уже не на вершине.
Не с ветром в волосах.
В городе. Утро которое пахло золой.
Огонь не торопился.
Он лизал страницы бережно, как котёнок – лапку, будто боялся обжечь слова,
которые Алиса когда-то берегла.
“Книги горят медленно”, – подумала она.
Слишком медленно.
Словно буквы цеплялись за воздух, чёрнели, сворачивались, пытались убежать от жара, но не от неё.
Это были записи – оставленные Дианой, её матерью.
Рецепты, пахнущие кореньями и бессонницей.
Зарисовки птиц, которых никто, кроме них, никогда не видел.
Сказки, неподписанные, непризнанные, неотпущенные.
И главное – слова.
Когда-то тёплые.
Теперь – вывернутые наизнанку. Холодные, как лекарство, которое не подействовало. Они звенели в голове, как медные монеты на гробовой крышке.
Она больше не слышала в них любви.
Только приказ.
Внушение.
Молчаливый страх.
И то самое «прости», которого не было.
Алиса бросала их в огонь – по одной.
Как судья.
Как дочь.
Как человек, которому осталась только зола.
Сначала пошёл в пламя травяной атлас, в котором между страницами лежали засохшие листья – базилик, мята, дурман.
Листья были старыми, как пролежавшие желтые страницы газеты.
А запах – не лекарственный.
Праховый.
Как если бы сама память сгнила и высыпалась на ладони.
Следом – восковая куколка.
«Хранительница», – говорила Диана.
Теперь её лицо поплыло, словно воск в стакане.
Глаза у куклы расплавились первыми.
Потом рот.
Он молчал. Как всегда.
А потом – рисунки.
Синие цветы, корявые стебли.
Подпись дрожащим почерком:
“Для мамы”.
Она тогда очень старалась.
Очень хотела, чтобы ей улыбнулись.
Пламя встретило рисунки с жадностью.
Чернила треснули,зашипели, спорили с ней.
Будто осуждали.
– Вот и всё, что ты мне оставила, – прошептала Алиса.
Голос был ровный, но в нём что-то дрогнуло.
Не горе.
Гнев.
– Пустоту.
– Страх.
– Людей, которые шепчутся за спиной.
Крестятся, когда я прохожу.
Плюют мне вслед.
Отводят взгляд, а потом всё равно говорят:
“Она – та самая”
“Дочка той, что с болот…”
“С ней лучше не связываться…”.
Дом матери обходят стороной.
Словно он живой.
Словно выдохнет яд, если войти не с той ноги.
А её саму —терпят или терпели.
Пока не выздоровеют.
Пока не умрёт старик.
Пока не схватит малярия.
Пока… не понадобится.
Последняя страница загнулась, дрогнула,
вспыхнула – и сгорела до кромки.
Осталась тонкая полоска пепла, похожая на крыло мотылька, что слишком близко подлетел к свету.
Небо над свалкой машин было серым, но дым сделал его почти чёрным.
Как будто кто-то стёр солнце пальцем.
Где-то каркнул ворон.
Второй – ответил.
Коротко, будто смеясь.
Словно знал больше чем надо.
Алиса отвернулась.
Пепел лип к волосам,
оседал на плечах,
будто чей-то взгляд.
Будто сама Диана стояла сзади.
Молча.
Как всегда.
Она шла медленно.
Мимо гнилых островов машин,
мимо сгоревших воспоминаний,
мимо самой себя.
А в спине —
звенело.
Зачем?
Зачем?
Зачем?
Звук.
Смех.
Запах.
Печёный хлеб. Корица. Жареный лук.
Человеческая жизнь.
Та, которая не сгорела.
Город жил.
Словно ничего не случилось.
Словно никто не умер.
Словно огонь – это просто способ согреться.
И это было обиднее всего.
Алиса остановилась.
Подняла голову.
Словно впервые увидела улицы,
которые столько лет звали её своей.
– Сегодня же… суббота, – сказала она.
Тихо.
Словно боялась.
Глава 2
В воздухе висел сладковатый дым жаровен – карамельные яблоки, жареный миндаль, глинтвейн с корицей, перебитые резкой, почти дерущей ноздри нотой конского навоза и кислого пива. Над рядами лотков трепетали пёстрые флаги: алые, шафрановые, изумрудные – словно кто-то рассыпал коробку акварелей по выцветшему небу.
Праздник жил, пел, ел и пах,
а она шла сквозь него,
как тень.
Платье, когда-то синее, выцвело до цвета грозовой тучи. Волосы, не заплетённые, колыхались на ветру – спутанные, как воронье гнездо. Алиса не поднимала глаз. И не спешила.
– Селёдка, свежая селёдка! С первым льдом! – орал рыбник, срывая голос.
– Пряники, медовые! Кто пряники? – звенела певуче девка с румяными щеками.
Запахи били в нос, и в животе предательски заурчало. Три дня – на хлебе и чае из сушеной крапивы. Рука дёрнулась к кошельку.
Но в этот момент из-за лотка высунулся торговец – толстый, в фартуке, забрызганном рыбьей кровью.
Он увидел её. Узнал.
– Ты чего тут, ведьма? – прошипел, лицо его сморщилось, как если бы он откусил лимон.
Алиса не ответила. Сжала губы. Сделала шаг в сторону.
Из толпы донёсся смех.
– Гляньте, дочка колдуньи вылезла! – крикнул кто-то.
Что-то шлёпнулось рядом. Плевок. Потом ещё один.
Она не остановилась. И не ускорилась.
Просто шла, глядя себе под ноги,
где мартовский снег, грязный и рыхлый, хлюпал под сапогами.
Вокруг гремела жизнь.
Солнце играло в лужах. Где-то визжали дети, скатываясь с горки.
Колокольчики, заливистый смех, пар от глинтвейна и горячих орехов —
всё было настоящим. Тёплым. Не для неё.
А она шла.
Одна.
И даже не плакала.
Полуденный холод сжимал город тонкими хрустальными пальцами, будто пробовал на вкус каждый подоконник, каждую щель под дверью. Над мостовой клубилось марево – не то пар, не то пыль, прозрачное, как выдох. В нём таились остатки недавнего пожара на угольном складе, запах кофе из подвала, да следы табачного дыма, впитавшегося в камень.
Кто-то чихнул.
Кто-то хлопнул дверью.
Где-то завыл пёс.
Алиса продолжала идти.
Тихо.
Город скрипел под её подошвами, как старый шкаф,
будто помнил – кто она.
Из лавки на углу тянуло выпечкой – тяжёлый, тёплый, цепкий запах. Он хватал за горло, как голос, которого не ждала. В витрине лежали плюшки, свернутые в узлы, похожие на человеческие ладони. Рядом – булки, гладкие и румяные, как младенцы в тестяных пелёнках.
Над этим теплом – колокольчик. Он дрожал.
И замолкал, когда она приближалась.
Мимо прошёл мужчина в шерстяном пальто.
Заметил её. Присмотрелся. Отвернулся.
Затянул воротник. Будто запах в ней был неправильный.
Алиса свернула за аптекарским домом.
Там, во дворе, стояло дерево. Скрюченный боярышник, весь в инее.
Когда-то оно цвело в мае – бело, как молоко,
а теперь ветки были сухими, изломанными,
а воробьи, сидевшие на них, казались кусочками чёрствого хлеба.
Она постояла. Не потому, что устала – просто нужно было хоть на минуту исчезнуть.
Ветер поднялся.
И тут же стих.
Словно шёл вслед
Она уже почти вышла за пределы рыночной площади, когда услышала шаги – неровные, тяжёлые.
Кто-то бормотал себе под нос, спотыкаясь о собственные слова.
Алкоголь пах не хуже дегтя – крепко, резко, с оттенком забвения.
– Эй. Ты. Ведьма, – раздалось сзади.
Алиса не остановилась.
Но и шаг не прибавила.
– Стоять, слышишь? – голос стал громче, ближе.
В нём не было злобы – только глупость, усталость
и глухое желание ударить хоть кого-то,
лишь бы почувствовать, что он ещё что-то значит.
Он догнал её у старого фонтана.
Схватил за локоть.
Неловко. Рвано. Слишком резко – для пьяной координации.
Алиса посмотрела на руку.
Потом – на него.
Мужчина был в мятом пальто, лицо налилось красным,
глаза – мутные, как пуговицы, пришитые не теми нитками.
– Ты ж, говорят, колдуешь, да? Лекарства всякие… Ворожишь… – хихикнул он.
– Мать твоя… тоже так. Всех лечила. А потом хоронили…
Он подался ближе.
Запах от него был, как от старого подвала.
Алиса не отшатнулась. Не дёрнулась.
Просто чуть повернулась.
Он не удержался на ногах —
упал. Сам. Как мешок муки.
И – тишина.
Никто не обернулся.
Женщина с корзиной прошла, не сбавив шага.
Парень в зелёной куртке уставился в витрину.
Старик на лавке закрыл глаза. Может, и правда уснул.
Пьяный поднялся, тяжело дыша.
Руки тряслись. В лице – злоба, но не решимость.
Сделал шаг – почти бросился.
– Ведьма! Сдохни, тварь!
Голос его сорвался,
как верёвка, которую слишком долго тянули.
Ещё миг – и он ударит.
Прямо по спине.
Или по лицу.
– Тронешь – И ты ухо свое в тесте оставишь, коли пальцем тронешь, – раздалось сбоку.
Женщина в жёлтом платке вышла из-за прилавка, будто случайно.
В руках – корзина, пахнущая тмином и кориандром.
В глазах – ни страха, ни удивления.
Только точность.
– Диана, твоему ребру помогала, не помнишь?
Ты тогда волком выл – так тебе резало.
А теперь на дитё зубы скалишь?
Она подошла ближе.
Не к нему – к Алисе.
Посмотрела на мужчину сверху вниз – как ветер смотрит на костёр.
– Исчезни. – А то я тебе такой отвар поднесу, что у тебя не только ноги – язык отнимется. Навсегда. В следующий раз – молча упадёшь.
Он что-то проворчал. Несвязное.
Отступил.
Повернулся.
Пошёл. Как собака с обломанным хвостом.
Женщина посмотрела на Алису.
Не оценивающе. Просто —сочувствующе.
– Пойдём, – сказала она и взяла за руку.
Крепко, по-хозяйски. Но не больно.
– Тут тебе никто не поможет. А я – не герой, но хоть баба с глазами.
Они шли мимо закрытого лотка,
где печенье оставалось на витринах, как письма без адресата.
– Мать твоя, – начала старуха не сразу, – моему-то хребет когда-то спасла.
Лежал, как гнилой мешок с картошкой. Да и вонял так же. А через неделю уже на коленях ползал. Ну и начал ходить уже через 6 дней.
Так он теперь вот так "благодарит".
Извини за него. Сын как сын: жрёт, врёт и пьёт.
Не колдун тут виноват – а кишка да сердце у него слабое.
Алиса не ответила.
Но руку не отдёрнула.
– Ты, девонька, уезжай, – сказала старуха.
– Люди везде одинаковы. Небо – тоже.
Разница только в том, как ты себя представишь.
И кому покажешь, кто ты есть на самом деле.
– А тут ты никому почти не нужно сдалась ты им пока беда на порог не придёт.
Они остановились у пересечения дорог.
Женщина показала пальцем вбок:
– Я сюда.
На прощание достала из корзины пару печений.
– Вот. Домашние. С изюмом. Дала бы больше – да он, свинья, почти весь изюм запил, сожрал.
Ненасытный.
Она повернулась. И стала медленно идти. Оставив после себя только запах тмина да тень, которая на миг показалась слишком длинной для такой маленькой старухи.
Алиса осталась одна.
Печенье в кармане. Тепло в пальцах.
В груди – пусто, как после тяжёлого сна.
Она шла домой по улицам, чёрным, как обсидиан —
скользким, коварным, будто сами камни ждали,
когда ты оступишься.
Под ногами гремело —
сухо, как гадальные кости в старом мешке.
Хруст, от которого внутри сжимается всё живое.
Весна не толкала —
она подставляла ногу.
Не обязательно физически.
Достаточно – в мысли.
Дом стоял в отдалённом квартале —
тихом, как недосказанная молитва.
У ворот уже разворачивался человек.
Худой, как кипарис на склоне.
Глаза уставшие – от слишком многих «попробуем ещё».
Перчатки белели на его руках.
Натянуты неловко,
будто сами руки пытались отказаться от прикосновений.
Глава 3
– Алиса, – сказал, врач не поднимая взгляда. – Я… недолго.
Обезболивающее почти не действует.
Она не ест.
Я… боюсь. Скоро. Очень скоро.
Ты… просто будь рядом. Не жди чуда.
Он ушёл быстро, будто опоздал на что-то.
А в воздухе осталась тень.
Слово «боюсь» – не звук, а трещина. Лёгкая, тонкая, но неизлечимая.
Алиса осталась на пороге.
Рука долго шарила по карманам, ключ будто ускользал – не хотел участвовать.
Когда она открыла дверь, иней треснул, как лёд под ногами ребёнка.
В доме было тепло, но это не был уют.
Это было застывшее тепло – как в комнате, где давно никто не смеялся.
Запахи – чабрец, смола, воск.
И что-то ещё – как слабый след чужого сна. Или прошлого, которое не ушло до конца.
Алиса молча сняла плащ. Повесила у зеркала, не глядя в отражение —
будто опасалась, что увидит не себя, а что-то другое.
Прошла на кухню. Увидела сумку с баночками
Он опустошалась, как сосуд:
одна склянка, вторая, третья – щёлк, клац, всплеск воды.
Пальцы красные, опухшие – как будто жили своей жизнью, и она была им в тягость.
Она включила воду. Тёплая струя наполнила раковину.
Руки – в воду.
Тишина.
В голове – тонкий, едва слышный напев.
Словно кто-то поёт сквозь закрытую дверь, сквозь годы.
Мелодия матери. Та самая, что звучала, пока ступка стучала в ладонях.
Голос Алисы – неуверенный, хрипловатый. Словно старое письмо, найденное под половицей.
Тот, кто сорвёт крапиву у старой стены —
тому ночью приснится зелёный огонь…
Вода мутнеет.
Пальцы погружаются – будто пытаются ухватиться за прошлое.
Пусть обжигает. Главное – держать.
Тот, кто найдёт корень в тени болот —
услышит, как дышит спящая смерть…
Над плитой – связка укропа, потрескивает, как хрупкий голос.
На подоконнике подрагивают занавески.
Вьюга за окном словно бьёт в ставни не ветром – просьбой.
Пусти. Дай войти.
А если сорвёшь цветок на рассвете…
будь готов, дитя…
Голос обрывается.
Всплеск ветра. Стекло дрожит.
Алиса вздрагивает.
Песня рвётся, как нитка.
И в доме снова тишина.
Дверь скрипнула.
В комнату втек мороз – колючий, с запахом угля и чего-то горького, как дым от костра, где жгли письма.
Алиса обернулась.
Плечи напряжены.
Спина прямая.
Руки – заслон перед раковиной, как будто моет не стекло, а вину.
На пороге стояла Марета.
Седая. Сероватая. Как зола в холодной печке.
Но глаза…
Глаза горели.
Будто под снегом тлел огонь, и никто его не доглядел.
В руках – глиняная кружка.
От неё тянулся пар.
Клюквенный. С мёдом, хвоей…
Кисленький, как жизнь под конец.
– Гляди-ка, моя крапивница, – звякнул её голос, как колокольчик под снегом. – Морсинку тебе несу… Да он, зараза, чуть не замёрз. Аж пальцы сводит – будто суслик за пятку цапнул!
Алиса вскинула глаза.
Руки дрожали.
Ложка соскользнула и звякнула о пол.
– Тебе нельзя в мороз, – тихо. – Ты ж сама говорила – суставы…
– А мне нынче не до суставов! – отмахнулась Марета, сбрасывая валенки.
На полу – мокрые следы, как лунки от следов зайца.
– У тебя тут, лисичка, духота, как в бане. Спасибо твоему зелью – колени у меня горели, будто муравьи свадьбу справляют. А теперь, гляди! – хлопнула себя по бедру. – Хоть пляши!
Она прошла к столу. Поставила кружку.
Глина шершаво царапнула дерево.
Пар поднимался ленивый, как дыхание уставшего зверя.
На краю кружки – инеевый узор. Подпись мороза.
– Это не моё зелье, – выдохнула Алиса.
Голос – острый, как игла.
– Это обезболивающее.
Временное.
– Да я знаю, лисёнок, – отозвалась Марета, провела пальцем по полке, оставляя чистую дорожку.
– Мать твоя клала туда мяту. Ты помнишь? Как укусишь – аж рот сводит, а она хохочет, как сорока на чердаке.
Склянка дрожала в руке Алисы.
Запах – спирт, трава, аптека. Но домашняя.
– Это не лечит.
– А что лечит? – Марета достала платок. Развернула.
Пирог. Тёплый. Черничное варенье расплылась по тесту. Пахло корицей.
Старым летом. Печкой. Домом, которого больше не дом.
– Голод лечит? Одиночество? Или твои пузырьки… – кивок в сторону полки. – Мой кот аж заскулил, думал, ему достанется.
Алиса не ответила.
Плечи приподнялись – будто хотела спрятаться в воротник.
Марета опустилась на табурет. Медленно, кряхтя.
В коленях щёлкнуло – как в старых часах.
– Не ворчи, дикая травка, – сказала она. Тихо, почти ласково. – Я ж не лекцию читать пришла.
Кашель.
Быстрый.
В платке – алая ниточка.
Тонкая. Как шов, который расходится.
– Пора вернуть тебе это.
Из-под шали – блокнот. Старый, как засохшее письмо.
Страницы слиплись от лепестков.
Обложка пахла ромашкой и дымом.
– Её рецепты. Думала, сгорели?
А я вытащила. В ту ночь. Когда она…
Голос стал тише. Почти исчез.
– Теперь – твои.
Алиса замерла.
Лампа потрескивала.
Ветер гудел, как пёс за дверью.
Марета положила блокнот.
Рядом – пирог.
– Не ешь, если не хочется. Но рецепты…
Они, как дети. Им нужно имя. Им нужно – быть нужными.
Молчание.
Алиса вздохнула. Еле слышно.
– Зачем ты пришла?
– Потому что я – последняя, кто помнит, как она смеялась.
А ты – последняя, кто может это повторить.
На пороге Марета обернулась. А потом, уже тише, без насмешки:
– Лечит то, что рядом. И кто рядом.
Не отвары. Не заговоры…
Руки. Голос. Еда, которой делишься.
– Только вот это "рядом" не в аптеке купишь. И не сваришь. Люди теперь берегут себя, как серебро, а делиться не спешат.
Вот помру – и некому будет тебе напомнить, что ты не крапива.
Ты – полынь.
Горькая. Но нужная.
Дверь захлопнулась.
Тишина – не мёртвая, а задержавшая дыхание.
Алиса смотрела на пирог.
Осторожно отломила крошечный кусочек.
Черника – кислая. Памятная.
Морс – чуть тёплый. Как она любит.
На языке – хвоя, мёд, клюквенный след.
Как будто кто-то сказал: живи.
Марета ушла.
Но остался запах трав.
И вязкий след в воздухе – как от сырой нитки, что тянется по ладони.
Дом снова стал тихим.
Настолько, что слышно – как дышит дерево.
Алиса сидела, обхватив себя за плечи.
Будто боялась рассыпаться, если отпустить.
Взгляд – на блокнот. Потрёпанный.
Уголки страниц загнулись, как лепестки засохшего пиона.
Пальцы тянулись сами.
Словно не её.
Словно те – детские, забытые.
Которые когда-то держали эти листы вместе с матерью.
Коснулись.
Дрогнули.
Блокнот пахнул временем.
Сухими травами. Чернилами. Чаем, пролитым много зим назад.
На плите – вскипал чайник.
Алиса отодвинула его машинально, не отрывая взгляда от страниц.
Огонь в горелке дрожал. Отражался в её зрачках.
В них – огонь и память.
Лист зашуршал.
Не вспыхнул сразу.
Сначала – сморщился,
потемнел,
потом – тонкая струйка дыма.
И только тогда – огонь.
Золотой, резкий. Как пощёчина.
Дым пополз по кухне.
Он пах не бумагой.
Пах воспоминаниями. Мятой. Липой. Тенью духов, впитавшихся в обложку.
Пах Дианой.
Алиса не шевелилась.
Смотрела, как строчки – маминым почерком —
чернеют,
скручиваются,
исчезают.
Остаётся пепел. Лёгкий. Как пыль с крыла мотылька.
Чайник стих.
Пар рассыпался в воздухе.
На часах – секундная стрелка поднималась.
Медленно. Как человек по лестнице без поручня.
А в руке Алисы —
горело прошлое.
Тихо.
Не жгло, но отзывалось ломотой.
Три дня, как мать под землёй.
А на столе всё ещё стоял её стакан.
С надбитым ободком.
Пустой.
В дверь снова постучали.
Не вежливо.
Не как Марета – с подвывом и ворчанием.
Сухо. Раз-два.
Будто не стучали, а проверяли дерево —
на гниль.
Алиса поднялась.
Медленно.
Как те, кто не хочет, но должен.
– Сейчас… – бросила через плечо.
Уже подумала, что это снова Марета. И чуть не добавила раздражённо:
– Забыла, что ли?..
Но на пороге стоял не дух с клюквенным морсом.
Высокий мужчина.
Прямой, как палка.
Чёрный плащ – без пылинки.
Перчатки – кожаные, тёмные, натянуты до костяшек.
Подмышкой – папка.
Лицо – пустое, как дверь без ручки.
Глаза – как старые чернильницы. Тускло. Глубоко.
– Алиса Гриде?
– Да…
– Прошу прощения за вторжение.
Баристер Троллоу. Городской нотариус Кэстэлрейна.
Мы пытались связаться, но вы не отвечали.
Он сделал паузу.
Как будто оставил место под извинение.
Но не предложил его.
– Я обязан зачитать завещание вашей матери.
Оно составлено при свидетелях. Считается действительным.
Он вошёл.
Не снял пальто.
Не разулся.
Не снял перчатки.
Как в суд.
А не в дом, где пахнет укропом и старой мятой.
– Можем здесь, – кивнул на кухонный стол.
– Подписи, копии – потом.
Алиса села.
Молча.
Пальцы легли на дерево.
Словно искали опору.
Или тепло.
Или смысл.
Нотариус раскрыл папку.
Бумага хрустнула —
сухо,
как лёд под ботинком.
Он прочёл:
– Последняя воля Дианы Гриде. Дата – такая-то.
Всё имущество, движимое и прочее, передаётся дочери.
Особое внимание – следующему пункту.
Он заговорил.
Голос – ровный. Каменный.
Как стык в городской кладке: между кирпичами – ни воздуха, ни сомнений.
А в груди Алисы —
открыли сосуд.
И в него:
капля.
капля.
капля.
Глава 4
«Дорогая моя девочка.
Если ты читаешь это – значит, я больше не могу держать тебя за руку.
Ты – как зима, в которой я видела весну. Мне казалось, ты холодная. Но я знала: ты просто боишься растаять.
Я знала, ты злишься на меня. И, может быть, ты права.
Я не была матерью, которую ты хотела. Но я была той, что могла.
В этой книге – всё, что я не успела сказать.
Всё, что не уместилось в чайных разговорах. В твоём молчании.
Читай, когда сможешь. Не раньше.
Я люблю тебя. Я всегда любила.
– Мама.»
Тишина.
Даже ветер замер за окном.
Как будто и он хотел дослушать до конца.
Нотариус аккуратно закрыл папку.
– Книга указана как единственное «ценное». Остальное… – он не договорил. – Передадут позже.
Алиса не ответила.
Сидела неподвижно, будто тело оставалось здесь, а всё остальное ушло – вглубь. Внутрь.
Туда, где боль дышит тише всего.
Пальцы медленно сжимались на столешнице.
До хруста. До побелевших суставов.
В горле – не ком.
Что-то длинное. Ржавое. Гвоздь.
Слов не было.
Только блеск в глазах.
Не слёзы – блики. Как у стекла перед дождём.
Нотариус поднялся.
– Подпись?
Она подписала.
Не помня – пером или углём.
Как во сне.
Как будто не она —
а кто-то за её плечом вёл руку.
– Что ж… – он откашлялся. Голос стал тише, будто стёртый резцом. – Как было завещано…
Он потянулся к саквояжу.
Не спеша. Двумя руками.
Как будто вынимал не вещь —
а прах.
Или дитя.
Или сердце.
Книга.
Старая. Тяжёлая.
Обтянутая чёрной кожей, как листья, пролежавшие зиму под снегом.
Без названия.
На обложке – замёрзший круг.
И десять резов.
Как порезы ногтей.
Как фазы луны, забывшей, где небо.
От неё тянуло странным запахом:
горелыми травами,
старым дымом,
и… чем-то знакомым.
Как настой для чёрной боли,
который мать хранила на верхней полке —
под полотном.
– Конец завещания, – сказал нотариус. – И последняя строка: