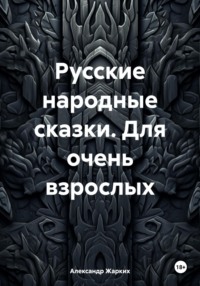Полная версия
Другая жизнь
Кстати, я даже пытался, взяв в зубы палку, писать ею на песке надписи типа «Я – человек», пытался из найденных палочек и веточек складывать разные слова прямо на тротуарах и во дворах панельных многоэтажек. Сам потом смеялся над этой своей глупой затеей. Получалось плохо и неровно, или люди мне не давали закончить своё письменное высказывание и говорили, показывая на меня: «Смотри, как собака смешно играет с палочками, но это опасная собака, ты к ней близко не подходи!».
Но здоровье – это наше всё. Поэтому я как мог старался поддерживать его на высоком собачьем уровне и искал сердобольных бабушек, которые через свою долгую жизнь пропустили, наверное, не одного кобеля. Им было всё равно уже, в человечьем он обличии, или в естественном своём натуральном. Они иногда подкармливали меня свежими продуктами, специально на такой случай купленными в магазине, и в такие дни моим измученным глазам уже не нужно было изучать меню ближайшей помойки. Я знал три типовых места, где обитали такие бабки, вернее, где эти существа размягчались душой и становились особенно общительными. Это были церква, почта и поликлиника. Ибо Бог, конечно, избавит и исцелит, но почта и участковый врач надёжнее.
Другие бродяжки подходить ко мне боялись, только посмеивались над моими брезгливыми попытками добыть себе еду, инстинктивно чувствуя во мне «Чужого» и даже «Чуждого». Им было жалко той еды, которую приходилось отдавать мне из ресурсов помойки, ведь после меня им гораздо меньше доставалось. Это было верно, и я почти догадывался о том, какие мысли должны были их посещать мысли при виде моей нехитрой трапезы: «Всё равно сдохнет скоро, не выдержит нашего житья. А если ещё немного протянет, то уж зимой точно замёрзнет и околеет.
А может, действительно лучше сдохнуть, чем быть никому не нужным? Нет уж! Не для того меня видимо разжаловали из людей в собаки.На самом деле я тогда просто кутался в своё одиночество. Может быть, плохо соображал из-за нахлынувших на меня за короткое время событий, но это холодное и тоскливое одиночество, как у космонавта, которого случайно забыли на чужой планете, я чувствовал каждой клеточкой своего собачьего тела. Это одиночество было нестерпимо большим и просторным, тяжёлым и безусловным, грубым и очень болезненным. Я метался, как Штирлиц по разбомбленному Берлину, а Юстас потерял всякую надежду связаться с Алексом и мысленно ругался на того матом, иногда называя его «чёртовой неуправляемой собакой».
Я видел людей и слышал собак. Я видел собак и слышал людей. И всё, что видел и слышал рядом с собой, казалось мне чужим и ненастоящим. Серо-голубая планета, населённая преимущественно хамоватыми существительными и именами собственными. Казалось мне не хватало воздуха во всей земной атмосфере. Это было какое-то космическое фэнтези. Опасливо пробегая вечером по холодным улицам родного города на этой чужой планете в пространстве между звёздами на небе и страхом, что тебя в любой момент могут пристрелить как собаку, я смотрел снизу вверх на освещённые изнутри окна в многоквартирных домах. Эти окна могли запросто свести меня с ума. Причём и с собачьего, и с человечьего тоже, если он там ещё оставался.
Я знал, что свет в этих окнах освещал уютные маленькие кухоньки, в которых было тепло и кто-то уже сидел за маленьким столом, ожидая появления пара из чайника, нетерпеливо цепляя пальцами кусочки колбасы и сыра из большой фарфоровой тарелки на столе, рядом с которой стояла запотевшая бутыль водки с недорогой этикеткой. Как и положено приговорённым, эта бутыль думала только о том, прикончат её до чая, лишая жизни медленно и для удовольствия в будущем разговоре, или завершат её существование разом, опрокинув всё содержимое в стаканы, чтобы побыстрее забыть обо всём незабытом.
Мокрая шерсть на мне, особенно внизу на животе, постепенно покрывалась тонкой корочкой льда, холодный асфальт неприятно морозил подушечки пальцев на моих лапах, студёный встречный воздух быстро превращался в моей пасти в голодную слюну и выходил из неё облачками пара. А мне так хотелось обжечь свои губы горячим чаем, а горло снова удивить глотком спиртного… Так из просто собаки я превращался в злую собаку, будучи по сути совсем не злым человеком. Мне просто некуда было идти. До своей человеческой квартиры через весь город уже явно было не суждено добраться. Да и незачем, пожалуй.
Моя человеческая память представлялась уже как далеко и долго длящийся лабиринт, где за каждым поворотом совершались какие-то мелкие и необязательные поступки, где я дико уставал от всяких человеческих условностей начиная от обязательного, но затруднительного прямохождения после пьянки и заканчивая невозможностью проезда на красный свет по встречной полосе в арендованной машине ввиду неотвратимой полицейской погони с последующим выкручиванием трясущихся рук и лишением прав, а также возможными угрозами лишения мужского достоинства при моём более серьёзном сопротивлении.
А это обязательное участие в корпоративных вечеринках, где требовалось самому острить шутками из Интернета и хохотать над такими же шутками своих начальников! Но хохотать нужно было осторожно, потому что эти шутки могли затронуть их жён и их бывших жён, которые с ними судились за полдома и полквартиры с полудетьми. Особенно осторожными нужно было быть с шутками по поводу их будущих жён, которые только что ушли с ними фривольно танцевать, тоже не успев ещё по-настоящему развестись с тем, что у них имелось на данный момент.
На следующий день, толком не проспавшись, нужно было снова ехать на работу, где в засаде своего кабинета поджидал такой же невыспавшийся начальник, который почему-то хорошо помнил всё, что случилось на корпоративе, и который станет разговаривать с тобой очень ласково и доверительно, почти как телевизор о Путине. А речь он поведёт о полной невозможности твоего дальнейшего прохождения службы под мудрым и чутким руководством этого начальника в связи со сложившимися обстоятельствами и отсутствием служебных перспектив.
Коллектив, как обычно, сделает вид, что не заметил потери задорного офисного бойца, слишком весёлого для офисных корпоративов, у которого и раньше случались «залёты», и продолжит своё скучное существование под руководством своего справедливого начальника. Ещё через несколько дней, окончательно выйдя из офиса в статусе вольноопределяющегося, бойцу захочется напиться и сесть в тот самый арендованный на каршеринге автомобиль и проехать на красный свет по встречной полосе.
А может быть, состояние и увязавшийся после работы за тобой приятель не позволят сесть в арендованный автомобиль. Тогда, чтобы подумать о продолжении своей человеческой карьеры в качестве фрилансера, можно просто прийти домой, включить электрический чайник и поставить принесённую с собой бутылку водки на столик в кухне, затем достать из холодильника нарезку сыра и колбаски. А когда во время вашей увлекательной беседы с приятелем позвонит одна из самых лучших девчонок «на подхвате» и спросит о планах на вечер, ты скажешь ей: «Катюша, поужинай и потрахайся сегодня без меня». Она обидится на целую неделю, а ты будешь продолжать вести с приятелем пьяно-светскую беседу обо всём сразу, то есть о начальниках и подчинённых в частности. В этой беседе к месту и не к месту будут обильно употребляться выражения типа «Да Бога ради!», «Да Бог с тобой, о чём ты говоришь?», «А Бог его знает!».
А Бог в это время будет стоять босиком на придверном коврике, из скромности не решаясь позвонить в квартиру, чтобы узнать, зачем его так часто упоминают всуе. Наверное, тысячи таких придверных ковриков чувствовали когда-то тяжесть его невесомых ступней. И ему не нужно было вытирать свои стёртые в кровь ноги об эти грязные коврики, чтобы войти и спросить с каждого. Но он не собирался этого делать, понимая, что люди за дверью сейчас пытаются спросить с него самого за всю свою своенравную жизнь, не слишком веря в существование Бога, даже когда чувствуют, что он всё равно есть.
А через неделю, разослав по разным адресам свои резюме, в напрасном ожидании приглашения на собеседование и получение оффера, кто-то нелепо уснёт рядом со всё той же, простившей было обиду Катюшей. Конечно перед этим ей было заявлено, что этот кто-то без ума от неё. Но она не станет уточнять, что там и без неё ума-то особого не было никогда, и она тут ни причём. Катюша просто молча впустит в свою спальню, а потом проснётся и как-то резко не захочет видеть его непротрезвевшую и ни на что уже не годную рожу рядом с собой в постели. Ибо зачем метить добрую женщину проникновением своей писи в неё и обещать ей это на всю её оставшуюся бабью жизнь, если сама женщина об этом даже и не думала.
Этот кто-то, не совсем протрезвев, пойдёт совершенно голым курить на её балкон. Весь пол балкона будет заставлен какими-то коробками с банками и ящиками, на один из которых придётся встать, чтобы прикрыть дверь за собой. А затем получится как-то неудачно облокотиться на низкие и скользкие перила и поэтому придётся случайно сорваться вниз с большой высоты, забыв попрощаться с Катюшей навсегда.
Нетронутое дворниками утро отразится уже в чьих-то собачьих удивлённых глазах, потому что торопившийся мимо куда-то по своим важным делам Бог уже страдал возрастной близорукостью, и тёмное пятно на газоне под окнами многоэтажки показалось ему слишком похожим на большую чёрную собаку. Но смотрел он как обычно, всего лишь одно мгновение, зато прямо в душу, в то место откуда сочились слёзы и вылезала человеческая слабость. И увидел он, что душа эта отёчна, сыра и вяла, что поправить там уже ничего не получится, и что только можно дать человеку последний шанс доиграть эту жизнь как-то по-другому. И шанс этот был такой же нелепый, как представить Бога, стоящим за дверью босиком на придверном коврике.
4. Альф
Голова – это место, где у собаки живёт язык. Именно живёт! Он у собак существует словно отдельно от всего остального. И очень это существо скользкое. Ему постоянно чего-то не хватает, особенно воды для питья, ему тесно в большой собачьей пасти, и поэтому он часто вываливается наружу, норовя облизать нос, который тоже живёт отдельно на голове у той же собаки, заслуженно занимая её центральную часть, потому что именно он решает, в какую сторону собаке нужно двигаться и чем предстоит питаться. Так они и идут вперёд язык с носом, а всё остальное, что есть у собаки, потом их догоняет.
Ну вот почему у меня сегодня такое вспоминальческое и страдальщицкое настроение, напоминающее о жизни, которой уже совсем нет? Ну зачем же меня так мучить несбыточным? Зачем вы так со мной поступили, язык мой и нос? Страдающая морда, ещё недавно бывшая лицом, привела меня к какой-то автобусной остановке. И жил я теперь очень отчётливо, но только на уровне человеческих ног. Ни в какой компьютерной игре вы не найдёте такой уровень. И это совсем другая жизнь, сильно отличающаяся от жизни на уровне человеческой головы. И это очень неудобно в городе, где пасётся до хрена людей. Это вам ни разу не пустынные степи Казахии или Поволжья. Здесь если захочешь увидеть что-то человеческое, то это будут именно ноги, опять ноги, сотни ног, а не привычное человеческому взгляду лицо. Ноги шаркают и топают по асфальту, а каблуки вбивают в уши равномерный стук метронома. Рядом с ними ты идёшь или крадёшься босиком почти неслышно, просовывая вперёд свою несуразную голову с большим чёрным носом, который снова куда-то ведёт тебя.
Запахи, которыми была богата эта остановка, быстро менялись вместе с разнообразием человеческих ног и несуразных тел, которые на них передвигались. Я долго сидел в кустах за остановкой и мечтал уехать зайцем на автобусе в свой далёкий район, но я не был похож на зайца, я был большой грязной и вонючей собакой со вшами, к тому же без ошейника, как непреложного документа о качестве собачьей жизни. И это вовсе не заниженная самооценка. Шансы мои попасть в салон автобуса без последствий для меня самого и невиновного автобуса были минимальны. Неожиданно что-то насторожило мой снова загрустивший было нос. Это был какой-то постоянный и острый букет запахов, который оставался на остановке и не уезжал вместе с очередным автобусом.
Присмотревшись и принюхавшись, я увидел, что рядом с остановкой под лавкой валялся чей-то мобильник. Чёрное тельце «Самсунга» остро пахло женскими запахами и молчало. «Потеряла», – подумал я и осторожно достал зубами из-под лавки это чудо человеческой техники. Затем попытался зажать его лапами так, чтобы телефон включился. Удивительно, но мне это удалось, засветился экран. «Введите пароль», – смог прочитать я . – «Ну да, щас!»Попробуйте ногами в обуви набрать несколько цифр на телефоне…
Да и что я мог написать в сообщении, которое хотел отправить на номер 112? «Помогите мне, я стал собакой»? Или «Спасите, я снова хочу стать человеком»? Нелепость этих утверждений была слишком очевидна, а сарказм всей ситуации оказался необыкновенно горьким для меня, если не сказать жутким. Я с ненавистью посмотрел на телефон, словно это он был виноват в том, что всё не так. А как? Ну, конечно, через жопу… Так и не ищи крайних. Здесь крайний только один, и это ты. Вспомнил о своём собственном телефоне. Наверняка я к этому времени уже был мусором в памяти телефонной книги для многих. Излить своё нечеловеческое горе было некому, а ведь так хотелось найти кого-то, кому можно хоть как-то пожаловаться и рассказать обо всём со мной случившемся. Вы когда-нибудь видели невыносимую тоску в глазах у некоторых собак? Вот, мои были наверняка такими же…
И отправился я снова на главную помойку района искать того самого трусливого начинающего бомжа, который хотел подманить меня куском колбасы. Почему-то казалось, что человек, выкинутый в силу каких-то своих обстоятельств из обычной человеческой жизни, должен был понять меня как никто другой даже без слов. Конечно, это оказалось совсем не так. Родственной души я там не нашёл, но неожиданно обрёл настоящего друга, чьё доброе и отважное сердце не забуду никогда.
Я разыскал ту помойку и нашёл того начинающего бомжа как раз в тот момент, когда он подманивал к себе очередную жертву, которой оказался рыжий, похожий на кавказца пёс. Подоспел вовремя, потому что бомж уже приготовил верёвку, чтобы затащить его в свои гнусные чертоги. Я прыгнул в сторону бомжа, зарычав, как в прошлый раз, и разинув пошире пасть. Это произвело должный эффект на всех, и на меня самого тоже. В этот момент я перестал быть непонятно кем и уверенно осознал себя собакой. Наверное, впервые по-настоящему поняв некоторые преимущества существительного «пёс» перед существительным «бомж».
Неудавшейся жертвой бомжа был добродушный пёс в годах, не озлобившийся до звериного скотского состояния, хотя и был брошен первыми владельцами давно и навечно, несколько раз бежавший из собачьего муниципального приюта, который, как и все подобные, на самом деле был лагерем строгого режима для собак, которым не повезло в их собачьей жизни больше обычного. «Вот очень грустно, когда тебя не могут полюбить, потому что ты старый» – подумалось мне почему-то тогда.
Он был такой же вольноопределяющийся и самостоятельный пёс, как и я. Только старый. И такой же одинокий и несистемный, то есть не поддерживавший дворовые собачьи устои, заставлявшие голодных и слабых духом собак сбиваться в стаи и враждовать между собой по территориальному принципу. Но для того, чтобы существовать независимо, нужно было быть достаточно крупной собакой, которая смогла бы постоять за себя. Этот пёс сразу осознал, что именно я для него сделал, и был крайне благодарен мне за это. Он тоже погавкал немного на убегавшее от нас недоразумение. Правда гавкал он с неповторимым нашим южным акцентом (грудное «г») «ГАФ», выдавая тайну своего происхождения. Я удивился, что эта особенность была присуща даже собакам. Потом он подошёл ко мне и посмотрел в мои собственные собачьи глаза. Мы каким-то образом оказались на одной собачьей волне несмотря на совершенно разные сущности, которые содержались в нашем собачьем живом мясе под под толстой шерстяной шкурой.
Как-то очень быстро мы нашли с Альфом общий собачий язык, хотя до этого у меня такое ни с кем не получалось. В общем, мы потом так насобачились общаться, что стали неразлучными. В какой-то момент я осознал, что думал и разговаривал с ним уже не словами, а прямо так, поверх слов, сразу острой, неторопливой тоской, заменявшей мне рассудок. Такая же тоска наложила свой отпечаток и на Альфа. Она возникала из обстоятельств нашей жизни, так или иначе связанных с людьми.
Так я уже окончательно приступил к персонализации собак, которые до этого все казались мне на одно лицо, как азиаты для европейцев и наоборот. Через несколько дней Альф в благодарность за своё спасение привёл меня в сторожевую комнатку тёти Светы, где она теперь пожизненно исполняла свои вахтёрские обязанности, охраняя какую-то заброшенную подмосковную турбазу. Зимой на этой базе не было никого, оставалось только вверенное ей имущество в дощатых домиках с облупившейся краской. Прошлой зимой он тоже жил у тёти Светы вместе со своим приятелем золотистым ретривером по кличке Гордый. Этого приятеля укусила в лесу бешеная лисица и он умер потом, убежав куда-то и не успев заразить Альфа.
Тётя Света отличалась тем, что по какой-то причине привечала только крупных собак и подкармливала их. А зимой они прямо жили в одной из двух маленьких комнат её сторожки. Собаки периодически менялись, но двоих самых крупных она неизменно пускала к себе в дом. И вели они себя очень культурно. И тётя Света и собаки. Не гадили в комнатах и на территории базы. Собакам было хорошо зимой по ночам спать в тёплой сторожке. А утром они просыпались, и все вместе делали вид, что совершенно незнакомы, расходились в разные стороны. Тётя Света на обход территории, а собаки по своим делам. С тётей Светой так можно было попытаться дожить до весны. В эту зиму двумя её любимыми крупными собаками стали мы с Альфом. Он был старым, а я молодым.
Я всегда хотел узнать, что настоящие собаки думают о людях на самом деле.
– Таких, как мы, в дом уже не берут. Иногда нам дадут что-то из еды, делая из нас попрошаек. Играют с нами, – рассказывал мне Альф. – В детстве меня приучили к слову Альф, требуя, чтобы я на него откликался. Потом меня научили «давать лапу», прыгать и даже «петь». Людям такое нравится. Ты привыкаешь к ним. Но, со временем они куда-то уходят и не возвращаются. Ты можешь бегать за ними, но это ничего не изменит. От некоторых можно получить даже удар ногой по голове. Потом они просто забывают о тебе. Ведь о тебе можно забыть как об игрушке, которая надоела. А для тебя продолжается твоя настоящая жизнь…
После рождения меня отдали в дом к бедным людям. Я любил их, хотя приходилось иногда и голодать. Хозяин назвал меня Альфом и я очень привязался к нему. А потом этим людям понадобилось переехать в другой город. И они решили избавиться от меня. Хорошо, что это случилось летом. Меня потом нашли грибники в лесной чаще. Они удивились, увидев меня, привязанным к сосне и еле живым, потому что я уже обглодал всю кору, до которой смог дотянуться и готовился умереть. Эти люди отвезли меня в местный собачий приют. Но он был переполнен. Собаки там тоже голодали. И я сбежал, а потом несколько месяцев учился уличной жизни. Едва не умер от холода, живя в каком-то подвале и научившись ловить мышей. Потом нашёл себе новый дом и опять меня бросили, и я опять попал в приют, и опять сбежал, но это уже другая история… Пойдём, Серый, нас тётя Света в дом зовёт.
Да, мне пришлось для него назваться Серым – это имя было привычно моему человеческому слуху, потому что так меня называли некоторые приятели на работе, когда просили взаймы до зарплаты, потому что все остальные довольно уважительно старались называть меня Сергей Андреичем, ведь я был заместителем начальника отдела. Пришлось придумать незатейливую историю о своём ненастоящем происхождении, как о брошенном породистом псе, который очень быстро вырос до невероятных размеров в результате неурядиц в семье и перестал устраивать своих хозяев, как не полностью соответствующий характеристикам породы. История была настолько незатейливой, что Альф в неё сразу поверил. Да я и сам уже хотел в неё поверить.
А тётя Света закрыла за нами с Альфом поплотнее толстую, обитую ватином, дверь на улицу и уселась за столик рядом с продавленной её килограммами кроватью. Затем вся размоталась, освободила наполовину седые волосы от пухового платка и стала пить горькую, согревая между нашими с Альфом телами свои больные венозной старостью ноги. Она сидела за накрытым газетами столом и ковырялась пухлыми пальцами в вяленой рыбе, занесённой в дом вместе с водкой. Что-то в этот день у неё не очень получалось с процессом беспричинного поглощения сорокаградусного напитка, лихо налитого в зелёную металлическую кружку до самых краёв. И тогда она выдохнула, сделала ещё пару больших глотков из кружки, вытерла свои усы, посолила кусок чёрного хлебца, понюхала его и стала есть, одновременно обращаясь ко всем, то есть к нам с Альфом:
– А я так скажу, собаке-то даже лучше выложить душу: тут тебе никаких прений не возникает – она никому не скажет, а самой тебе полегчает… Вот она я, Света – охрана. Теперь вопрос: а если будет воровать не один? Что Света сделает? Правильно, ничего она не сделает. Они всё утащат… А ведь воруют все! Все воруют в этой грёбаной жизни. Кто-то меньше, кто-то больше. Ну и пусть тащат… Но ведь могут же и саму жизнь твою украсть!..
Тут даже я сам в первый раз, когда это услышал, насторожился, а она продолжала:
– Вот я же не всегда такой дурой была без дома, без семьи! Да, и у меня другая жизнь была. Да, была! Что ты на меня так смотришь, а?.. Ты на меня, милок, так не смотри! Вон у тебя одна жизнь, да и та собачья… А у меня, знаешь какая жизнь-то была? О-о-о, какая жизнь, – тут тётя Света подавилась кусочком твёрдого хлеба, но быстро и громко прокашлялась:
– Ну вот, мамочки-палочки, я и говорю, к боли этой постепенно привыкаешь. Ты же баба, – икнув, сказала тётя Света и продолжала, разговаривая уже сама с собой: – Ну а как ты хотела? Родился бабой – терпи, сиськи отращивай, мечтай. Потом ещё и рожать придётся… Да чтоб эти все мудаки сами передохли, будут мне тут ещё трёхдневные концерты с оргиями устраивать! – в словах тёти Светы я услышал отголоски ещё одной неправильно прожитой и угасающей жизни безо всякой питающей идеи для будущего, – А потом они, слышь, говорят, чего грудь и жопу-то наела? Да я и сама знаю, аж на весы вставать страшно…
Иногда к ней заходил по случаю участковый мент Юра, приносил всё жидкое и вкусное с собой, угощал. А потом, после того как грубо и по-быстрому тревожил оставшуюся бабью жизнь тёти Светы, подходил к окошку и вытирал свою удовлетворённую хреновину прямо о цветастые занавески. Мы с Альфом лежали у батареи, делая вид, что спим, и не мешали ему хамить, даже когда он как-то недобро поглядывал в нашу сторону. Условный мент был, даже условно-досрочный!
– Выкинула бы ты этих своих собачуг поганых! Откормила два лба здоровых, того и гляди саму сожрут скоро, – говорил обычно Юра и грозно пыхтел, напрягаясь всем своим грузным телом на тёте Свете.
– Ты моих собачек не трогай, люблю я их! – выдыхала из-под него тётя Света.
– Ой, да знаю я как ты любишь…
– Ну не тебя ж мне любить, ирода такого… Ай, больно мне…
А тетя Света продолжала после его ухода свою обычную песню про другую жизнь, почти уже засыпая и плача: – Ой, мамочки-палочки, одни вы у меня, пёсики мои верные, одни вы у меня людьми остались. Одни вы меня любите, нету ж больше никого у меня, ой нетути совсем! Ой, мамочки-палочки, не подшили Свете тапочки…
В такие дни тётя Света долго смотрела телевизор и засыпала, не выключив его. И тогда телевизор начинал смотреть я, мешая спать Альфу, который не понимал, почему я так долго таращусь в ту сторону своими голубыми глазами. Телевизор был старый и работал от антенны, которую нужно было часто поправлять. Для этого тётя Света забиралась по крутой металлической лестнице, прикрученной к кирпичной стене, на крышу сторожки. Высота лестницы была метров семь, потому что над сторожкой был ещё деревянный чердак с заколоченным входом. Я представлял, насколько трудно было тёте Свете с её габаритами подниматься наверх и потом спускаться вниз, но помочь ничем не мог. Я был собакой.
На самом деле зимой всем было очень холодно и страшно. Зимой всегда трудно. Иногда за дверью, то есть за бортом практически была межзвёздная температура – 31С, которая вместе с ветром и влажностью ощущалась как – 100С. А дворовым собакам ещё и беззащитно было. Их мнимая независимость определялась лишь тем, что вечно спешащие куда-то городские люди стыдливо прятали свои наружные глаза от голодного несчастья, которое приключилось с замерзавшими надолго или навсегда уличными собаками. Но у многих людей внутренние глаза лишь запечатлевали в памяти каким-то смартфоновским стоп-кадром или тик-токовским минутным фильмом этих шерстяных нелегалов городской жизни: