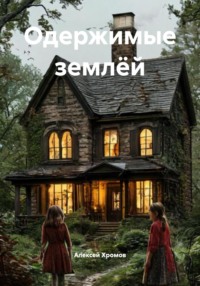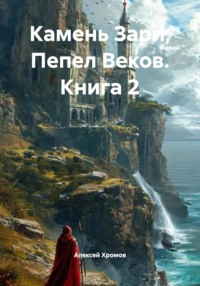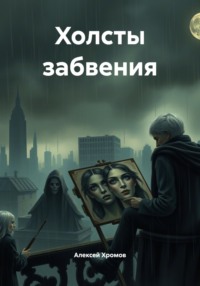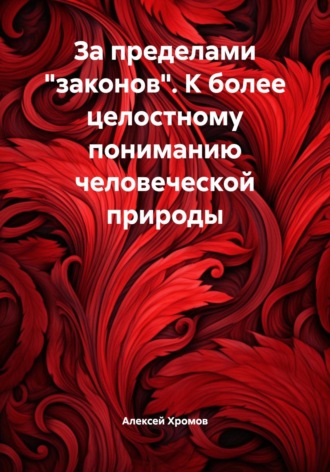
Полная версия
За пределами «законов». К более целостному пониманию человеческой природы
И, конечно, мы не можем забыть о нашем старом знакомом – нарциссическом расстройстве личности (НРЛ). Грандиозный, сияющий образ, который такой человек проецирует на мир, – это тоже своего рода железная, несгибаемая маска, под которой, как мы уже говорили, зияет черная дыра внутренней пустоты и мучительной хрупкости. Вся жизнь превращается в титанический труд по поддержанию этого фасада и в неустанную погоню за восхищением, которое для него – как воздух.
Так чем же этот трагический балет искалеченных душ отличается от «игры» по рецептам Грина?
Во-первых, оковы вместо крыльев. «Мастер игры», о котором мечтает Грин, – это виртуозный танцор, легко меняющий стили и партнеров. А здесь маска – это скорее тяжелые кандалы, от которых невозможно избавиться; роли жестки, навязчивы и отчаянно неадаптивны. Человек не может просто «выйти из образа» – этот образ и есть его искаженная, но единственная форма существования.
Во-вторых, страдание вместо триумфа. Гриновский игрок стремится к лаврам победителя, к власти и успеху. А герои наших печальных историй, несмотря на возможное внешнее обаяние или мимолетные «победы» (особенно у антисоциальных или нарциссических личностей), их жизнь – это чаще всего череда разбитых отношений, карьерных тупиков и глубокого, пусть и не всегда осознаваемого, внутреннего страдания.
И, в-третьих, корень зла. У Грина игра – это осознанная стратегия. А у наших персонажей специфическое использование ролей или масок – это крик о помощи, симптом глубокой трещины в фундаменте личности, проблем с самоидентификацией, с умением регулировать свои бушующие эмоции, с выстраиванием здоровых связей с миром. Эти корни часто уходят в самые ранние, травмирующие страницы их жизненной истории.
Так что, увлекаясь романтикой сознательного управления масками, которую так искусно рисует Грин, важно не забывать: грань между хитроумной стратегией и трагической поломкой личности может быть тоньше волоска. Жизнь, полностью сотканная из сменяющих друг друга фасадов, без связи с живыми, подлинными чувствами, без твердой почвы стабильного «Я» под ногами, – это не знак высшего пилотажа, а скорее тревожный звоночек, сигнал серьезных психологических бурь. Предлагая каждому стать гениальным актером на сцене жизни, Грин, похоже, забывает, что для некоторых этот бесконечный спектакль – не свободный выбор, а мучительный симптом их душевной боли.
10. Просветление души, или когда быть собой – лучшая стратегия.Холодный, расчетливый театр Роберта Грина, где на сцене жизни выживают лишь самые искусные мастера маскировки, скрывающие свои истинные лица и виртуозно дирижирующие чужими впечатлениями, манит своими обещаниями власти и успеха. Он призывает нас не просто принять правила этой игры, но и самим стать ее гениальными актерами. Однако, как мы уже успели убедиться, за блестящим фасадом этой философии часто скрывается непомерно высокая цена – от выжженной души и потери собственного «Я» до руин доверия и сползания в темные лабиринты душевных расстройств.
Но неужели этот путь – единственный? Неужели нет альтернативы, которая, признавая всю сложность социальных танцев, не вела бы нас к циничному отрицанию человечности и бесконечным манипуляциям? К счастью, такой путь есть. Он словно солнечный луч, пробивающийся сквозь плотные шторы гриновского маскарада, и имя ему – стремление к конгруэнтности и искренности.
Вместо вечного холодного расчета – конгруэнтность, теплое и живое понятие, подаренное нам гуманистической психологией Карла Роджерса. Представьте, что ваши внутренние чувства, мысли, ваши сокровенные ценности и то, как вы проявляете себя во внешнем мире, звучат как гармоничный оркестр, а не как разрозненные, фальшивящие инструменты. Это не значит бездумно выворачивать душу наизнанку перед каждым встречным. Это значит стремиться к тому, чтобы ваше внешнее поведение было честным отражением вашего внутреннего мира, настолько, насколько это уместно в конкретной ситуации. Вместо мучительного вопроса: «Какую маску мне сегодня нацепить, чтобы добиться своего?», вы задаете себе другой, куда более важный: «Как я могу выразить себя честно и адекватно в этой ситуации, оставаясь верным своим ценностям, своей сути?».
На смену расчетливому обману приходит искренность, мудрая и чуткая. Это не колючая правда-матка, брошенная в лицо без разбора, и не тактическая прямолинейность, способная лишь оттолкнуть. Истинная искренность – это когда в основе ваших слов и поступков лежит отказ от сознательного введения в заблуждение, от возведения фальшивых стен ради манипуляции. Это та основа, на которой вырастают настоящие, крепкие мосты доверия и подлинные, глубокие связи между людьми.
Вместо оттачивания до блеска актерского мастерства и жонглирования масками, почему бы не вложить силы в развитие настоящих социальных навыков – тех самых сокровищ, которые делают нас людьми? Умение не просто слушать, а слышать сердцем; способность ясно и бережно доносить свои мысли и чувства; искусство находить общий язык и конструктивно разрешать конфликты, не теряя при этом себя; дар эмпатии, позволяющий почувствовать другого человека. Эти навыки помогают строить живые, дышащие отношения, а не просто имитировать их правдоподобные копии.
Да, определенная доля осознанного управления впечатлением – неизбежная часть нашей жизни. Мы ведь не придем на деловую встречу в пижаме, а на пикник – в вечернем платье. Но ключевое слово здесь – «осознанное» и «этичное». Важно проводить четкую грань между естественной адаптацией к социальным нормам (что вполне приемлемо) и созданием лживого, приукрашенного образа с целью обмануть, использовать или унизить другого человека (что губительно и для окружающих, и для собственной души).
Важно также принять свою уязвимость. Понимание того, что быть настоящим, искренним и открытым иногда означает снять защитные доспехи и показать свое незащищенное «Я», может пугать. Но именно эта готовность рискнуть, приоткрыть завесу над своей душой (конечно, в подходящем контексте и с людьми, заслуживающими доверия) открывает двери к таким глубоким и значимым отношениям, о которых вечный «игрок» в театре Грина может только мечтать.
И, наконец, взгляд на долгую перспективу. Если стратегии Грина сулят быстрые, но часто мимолетные победы во власти и контроле, то путь конгруэнтности и искренности – это инвестиция в долгосрочное благополучие души. Это крепкий фундамент для здоровых отношений, источник глубокого чувства осмысленности и полноты жизни.
В конечном итоге, альтернатива Грину – это осознанный выбор в пользу живого, бьющегося человеческого сердца, а не холодной, безупречно выделанной маски. Это путь к построению такой жизни, где успех измеряется не только внешними трофеями, завоеванными любой ценой, но и внутренней целостностью, глубиной оставленного следа в душах других людей и тем тихим, но ясным светом подлинности, который исходит из самого вашего существа. Это, безусловно, более сложный путь, требующий мужества, честности с собой и постоянной внутренней работы. Но он ведет к жизни куда более богатой, осмысленной и устойчивой, чем вечный, утомительный маскарад в сумрачном театре Роберта Грина.
Глава 6: Распутывая узлы судьбы: в плену невидимых программ, или как характер пишет наш жизненный сценарий (Закон 4)
1. "Я же говорил!" – шепчет Грин, или почему мы обречены наступать на старые грабли.Ну что ж, друзья, пристегните ремни покрепче, потому что Роберт Грин приготовил для нас очередной крутой вираж в его лабиринте человеческой натуры. Мы уже усвоили, что по его мнению, нами правят слепые инстинкты (Закон 1), мы по уши влюблены в собственное отражение (Закон 2), и вся наша жизнь – это нескончаемый маскарад (Закон 3). А теперь, как будто этого было мало, Четвертый Закон окутывает нас еще более плотным туманом фатализма, утверждая: наше поведение, друзья мои, предопределено не чем иным, как нашим характером, этим причудливым гобеленом, сотканным из глубоко въевшихся, часто навязчивых и совершенно неосознанных узоров поведения.
В чем соль гриновской мудрости на этот раз? Он, словно опытный кукловод, дергает за ниточки нашего самомнения и заявляет: забудьте о сказках про свободных героев, ежесекундно вершащих свою судьбу осознанным выбором. На самом деле, говорит он, мы все – жалкие рабы своих привычек, заложники собственного прошлого. Наш характер, этот слепок души, по Грину, формируется еще в те далекие времена, когда мы пешком под стол ходили – под неусыпным влиянием родителей, первых друзей, сильных впечатлений и горьких обид. Именно тогда закладываются те самые сценарии, по которым мы будем реагировать на мир, те страхи, которые будут преследовать нас по пятам, те желания, что будут манить недостижимым светом, и те способы взаимодействия с окружающими, которые станут нашей второй натурой.
И эти сценарии, друзья, словно невидимый компьютерный код, прошитый в нашей операционной системе, неумолимо управляют нами всю оставшуюся жизнь. Они заставляют нас с завидным упорством наступать на одни и те же грабли, словно это наш любимый вид спорта. Они подталкивают нас к повторению одних и тех же ошибок, будто мы разучиваем сложную, но совершенно бесполезную пьесу. Они ведут нас к выбору похожих, как две капли воды, партнеров, словно мы ищем статистов для одного и того же, заранее прописанного, драматического сюжета. Они заставляют нас действовать до смешного предсказуемо в определенных ситуациях, как хорошо отлаженный, но очень ограниченный механизм.
Грин особенно подчеркивает, что эти паттерны, эти узоры нашего поведения, часто носят компульсивный характер. Это значит, что мы повторяем их не потому, что так хотим, не из-за каприза или скуки, а потому, что просто не можем иначе. Даже если видим, что очередной поворот этой изъезженной колеи ведет прямиком в болото негативных последствий. Характер, в его мрачноватом понимании, – это не просто набор черт, которыми мы хвастаемся или которые пытаемся скрыть. Это, по сути, наша судьба, высеченная на камне. И если вы научитесь читать эти иероглифы человеческого характера, вы с большой долей вероятности сможете предсказать не только его завтрашний обед, но и всю его дальнейшую жизненную траекторию.
Как всегда, у проницательного (и немного циничного) Грина наготове и стратегический вывод из этого неутешительного диагноза. Раз уж люди – это такие предсказуемые автоматы, действующие по своим глубоко зашитым программам, то: ключ к власти над человеком – это умение "читать" его характер. Забудьте о внешней мишуре и блестящих масках (Закон 3). Ваша задача – научиться видеть за ними те самые фундаментальные, как тектонические плиты, повторяющиеся узоры. Грин советует нам превратиться в настоящих детективов души, обращая внимание на мельчайшие детали: как человек ведет себя в стрессовых ситуациях (там слетают все маски!), какие ошибки он повторяет с упорством, достойным лучшего применения, какие темы вызывают у него бурю эмоций, какие люди его окружают, словно отражения его собственных проблем. Все это – бесценные подсказки, ключи к его глубинному коду, к его "операционной системе».
Знание паттерна – это предсказание, а предсказание – это влияние. Если вы сумели расшифровать основной сценарий поведения человека, вы становитесь его негласным прорицателем, способным предвидеть его реакции наперед. А это, согласитесь, дает вам колоссальное преимущество! Вы можете либо мастерски обходить стороной те ситуации, где его "баг" в программе создаст вам проблемы, либо, наоборот, использовать его предсказуемость в своих, не всегда кристально чистых, целях. А если уж у вас проснулись (во что Грин, кажется, не очень верит) благие намерения, то вы даже можете попытаться помочь бедолаге осознать его повторяющийся кошмар.
Но прежде чем лечить других, загляни в себя, о, мудрейший! Грин, не изменяя себе, призывает нас направить этот беспощадный прожектор самоанализа и на самих себя. Попробуйте, говорит он, распознать свои собственные навязчивые сценарии, те грабли, на которые вы наступаете с особым энтузиазмом. Ведь осознание – это первый, пусть и маленький, шажок к тому, чтобы перестать быть стопроцентной марионеткой своих внутренних демонов. Хотя, судя по общему тону, Грин, похоже, не питает особых иллюзий относительно возможности кардинального изменения этих глубинных, въевшихся в плоть и кровь, паттернов.
Итак, Четвертый Закон Роберта Грина рисует нам довольно безрадостную картину: человек – это существо, чья свобода воли стиснута невидимыми, но стальными тисками его прошлого и характера. Мы – всего лишь машины, послушно работающие по заложенным в нас с детства программам. Весь вопрос лишь в том, хватит ли у нас ума и смелости, чтобы попытаться расшифровать этот код – как свой, так и чужой. И снова, это невероятно сильное и, во многом, фаталистичное утверждение, которое буквально кричит о необходимости пристального и критического взгляда со стороны как философии, так и глубинной психологии. Действительно ли мы так жестко запрограммированы на несчастье или успех? Или все-таки в этой сложной программе есть место для импровизации и свободного творчества? Вопрос, как говорится, остается открытым.
2. Кукловод Судьбы или Капитан своей души? Заглядывая в философские бездны под ногами у Грина.Стоит нам только прислушаться к четвертому постулату Роберта Грина – о том, что наши жизни подобны рельсам, проложенным в далеком прошлом нашим же характером, – как мы тут же оказываемся в самом эпицентре одной из старейших и самых горячих философских битв: есть ли у нас, хрупких созданий, хоть капля свободы воли, или же мы все – лишь винтики в гигантском, неумолимом механизме предопределенности, именуемом детерминизмом?
Детерминизм, если попытаться ухватить его суть без лишних сложностей, – это глубокая философская убежденность в том, что каждое событие во Вселенной, включая каждую нашу мысль, каждый наш выбор, каждое, казалось бы, спонтанное действие, на самом деле является неизбежным следствием всех предшествующих событий, разворачивающихся по строгим, незыблемым законам природы. Вообразите Вселенную как исполинский часовой механизм, безупречно заведенный в незапамятные времена. Если бы кто-то обладал знанием всех до единой шестеренок этого механизма – то есть, знал бы все начальные условия и все законы физики, а в несколько упрощенной, «гриновской» версии, психологии – он мог бы с абсолютной точностью предсказать не только солнечное затмение через тысячу лет, но и то, какой сорт кофе вы предпочтете завтра утром, какой галстук повяжете или какое слово оброните в споре. В такой суровой картине мира свобода выбора превращается лишь в красивую иллюзию, приятное, но в корне обманчивое ощущение, будто мы сами что-то решаем, в то время как наш «выбор» уже давно просчитан и является единственно возможным, фатальным результатом бесконечной цепи причин и следствий.
В противовес этому монументальному фатализму гордо реет флаг свободы воли, который в философии часто именуют либертарианством (не стоит путать с его политическим тезкой!). Приверженцы этой идеи страстно доказывают, что человек – не просто сложный биоробот, слепо реагирующий на каскад внешних раздражителей. Мы, говорят они, наделены подлинной, неподдельной способностью самостоятельно выбирать между различными вариантами действий, и этот выбор не скован железными цепями предшествующих причин. В нас теплится загадочная искра сознания, которая способна властно вмешаться в причинно-следственную карусель и породить действие «из ничего», «из себя», из глубины нашего свободного духа. Эта позиция, как нетрудно догадаться, неразрывно сплетена с понятием моральной ответственности: если мы действительно вольны в своих поступках, то именно мы, и никто другой, несем всю полноту ответственности за их светлые или темные последствия.
Однако, как это часто случается в запутанных философских дебатах, существует и третья дорога, попытка примирить, казалось бы, непримиримых оппонентов, – это компатибилизм, или так называемый «мягкий детерминизм». Мыслители этого направления стараются доказать, что свобода воли вполне совместима с предопределенностью. Да, признают они, наши желания, мотивы, глубинные предрасположенности могут быть полностью детерминированы нашим прошлым опытом, генетическим кодом, биохимическими процессами в мозгу. Но свобода, по их убеждению, заключается не в том, чтобы наши действия вообще не имели причин (это был бы не акт свободы, а проявление хаоса), а в том, что мы действуем в соответствии со своими собственными, пусть и предопределенными, желаниями и ценностями, без какого-либо внешнего насилия или принуждения. Вспомним простой пример: я испытываю жгучее желание съесть сочное яблоко, потому что мой организм настойчиво требует глюкозы, а прошлый опыт подсказывает, что яблоки – это вкусно (полная предопределенность моего желания). Но если никто не держит пистолет у моего виска, заставляя меня есть это яблоко против моей воли, а я сам, радостно повинуясь своему внутреннему порыву, тянусь к нему – вот оно, мое свободное, хотя и детерминированное, действие!
Куда же склоняется наш хитроумный Грин со своим Четвертым Законом, рисующим картину человеческого поведения, управляемого глубинными паттернами характера? О, здесь не остается почти никаких сомнений! Его настойчивые акценты на всесилии прошлого опыта, на тирании сформировавшихся с детства сценариев, на почти фатальной предсказуемости наших поступков – все это мощный и холодный ветер, наполняющий паруса психологического детерминизма. Свобода воли в его мрачноватой картине мира съеживается до размеров микроскопической, если не полностью иллюзорной, величины. Мы предстаем марионетками, послушно танцующими под неведомую музыку наших глубинных, неосознанных программ. Грин, конечно, не обрушивает на нас лавину философских терминов, он не утруждает себя написанием пространных трактатов о природе свободы воли, но его практические, порой циничные советы – о том, как «читать» характер, как предсказывать поведение, как использовать чужие «программы» в своих целях – все они произрастают из этой самой детерминистической почвы.
Почему же для нас так важно осознавать эту философскую подоплеку, разбирая гриновские «законы» по косточкам? Во-первых, следует понимать, что Грин преподносит нам свою идею о тотальной предопределенности характера как некий практический, почти научный «закон», который можно и нужно использовать в своих стратегиях. Но на самом деле он опирается на колоссальное по своему масштабу философское допущение, вокруг которого копья ломаются уже тысячи лет, и которому даже современная наука, будь то нейробиология или психология, так и не смогла вынести окончательный, неоспоримый вердикт. Да, многочисленные исследования указывают на огромную роль бессознательных процессов и нашего прошлого опыта в принятии решений, но точка в споре о свободе воли еще очень далека от того, чтобы быть поставленной. Во-вторых, с головой погружаясь в свою концепцию всемогущества паттернов, Грин почти не оставляет в своей схеме мира места для реальной возможности изменения, для осознанного, волевого выбора вопреки устоявшемуся сценарию, для целительной роли случайности или даже божественного вмешательства в человеческую судьбу. Он словно забывает или намеренно преуменьшает нашу удивительную, поистине человеческую способность к рефлексии, к глубокому обучению на собственных ошибках, к сознательному, порой мучительному, формированию новых привычек и реакций (хотя и бросает нам мимоходом совет «осознать свои паттерны», но, кажется, без особой веры в его эффективность). И, наконец, если мы, подобно марионеткам, полностью запрограммированы нашими паттернами, как это живописует Грин, то как же быть с такой неудобной и фундаментальной для человеческого общества вещью, как личная ответственность за свои поступки? Ведь если нет свободного выбора, то, по логике, нет и вины. Грин, похоже, не слишком обременяет себя этим вопросом – его фокус отчетливо смещается с моральных оценок на холодный, стратегический анализ предсказуемости и, следовательно, управляемости человеческим поведением.
Понимание того, что Четвертый Закон Роберта Грина покоится на весьма шатком и глубоко спорном детерминистическом фундаменте, помогает нам взглянуть на него с необходимой долей критицизма. Да, паттерны поведения существуют, да, они оказывают на нас влияние, порой очень значительное. Но действительно ли они – это наша неотвратимая, высеченная на скрижалях прошлого судьба? Или же у нас, людей, все-таки остается пространство для маневра, для подлинной свободы, для чуда самопреодоления и изменения? Психология личности, в отличие от несколько упрощенной и однобокой картины мира, предлагаемой Грином, открывает нам куда более сложный, многогранный и, возможно, гораздо более обнадеживающий взгляд на этот вечный, как само человечество, вопрос.
3. Бронзовая статуя или живое дерево? Разгадывая тайны характера, или Насколько мы действительно «запрограммированы»?Один из самых манящих и, пожалуй, самых коварных камней в фундаменте учения Роберта Грина – это его утверждение, будто люди действуют, повинуясь глубоко въевшимся, почти незыблемым узорам поведения, которые он щедро объединяет под всеобъемлющим термином «характер». Расшифруйте этот паттерн, этот сокровенный внутренний «код» человека, вещает Грин, и вы получите универсальный ключ: сможете не только предсказывать его поступки с поразительной точностью, но и искусно влиять на него, а то и виртуозно защищаться от его козней. Эта идея подкупает своей обманчивой простотой: разгадай человека, как сложный шифр, и ты станешь хозяином положения. Но так ли уж соответствует эта черно-белая картина тому, что говорит нам о человеческой душе современная психология личности? Действительно ли мы – пожизненные заложники нашего «характера», отлитого раз и навсегда, подобно бронзовой статуе, не способной изменить ни единого изгиба? Или же в этой картине катастрофически не хватает живых красок, динамики, и, что самое важное, веры в нашу глубинную способность к изменению и росту?
Чтобы распутать этот тугой узел, нам придется аккуратно разделить понятия, которые Грин так легкомысленно смешивает в одну кучу: темперамент, черты личности и, собственно, сам характер. Это не просто игра в синонимы, это разные этажи и грани того сложного, многомерного конструкта, который и делает каждого из нас уникальной, неповторимой личностью.
Начнем с самого фундамента, с темперамента. Это, пожалуй, наиболее «врожденный», биологически обусловленный кирпичик нашей индивидуальности. Вспомните новорожденных младенцев: один спокоен, как летний вечер, и лучезарно улыбается миру, другой – настоящий маленький ураган, активный, громкий, готовый взорваться от малейшего раздражителя. Вот это и есть наглядные проявления темперамента – те самые базовые, заложенные еще до нашего рождения генетические различия в том, как наша нервная система реагирует на мир, какой у нас уровень природной активности, насколько мы эмоциональны или общительны. Эти врожденные склонности дают о себе знать очень рано и, что важно, остаются относительно стабильными на протяжении всей нашей жизни. Например, человек с так называемым реактивным темпераментом, склонный к бурным, интенсивным эмоциональным откликам, скорее всего, сохранит эту особенность и в зрелом возрасте, хотя, конечно, научится лучше справляться со своими реакциями, управлять ими. Темперамент – это как бы тот фундамент, на котором будет возводиться все здание нашей личности. Он задает определенные предрасположенности, влияет на то, как мы будем воспринимать мир и реагировать на него. В этом смысле Грин, безусловно, прав: некоторые наши базовые, глубинные склонности действительно невероятно трудно, если вообще возможно, изменить кардинально. Но ведь фундамент, каким бы прочным он ни был, – это еще далеко не все здание, не так ли?
Следующий этаж – это черты личности. Это уже более устойчивые, но все же формирующиеся паттерны наших мыслей, чувств и поведения, которые выкристаллизовываются в результате сложного взаимодействия нашего врожденного темперамента с окружающей средой – с тем, как нас воспитывали, какой жизненный опыт мы получали, в какой культурной среде мы росли. Пожалуй, самой влиятельной и общепризнанной моделью в современной психологии личности является так называемая «Большая пятерка», которая предлагает описывать личность через пять широких, универсальных измерений: Открытость новому опыту (любознательность и креативность в противовес консерватизму и прагматизму), Добросовестность (организованность и надежность против спонтанности и некоторой беспечности), Экстраверсия (общительность и энергичность в противовес интроверсии и сдержанности), Доброжелательность (дружелюбие и эмпатия против скептицизма и склонности к соперничеству) и Нейротизм (эмоциональная нестабильность и тревожность в противовес эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости). Многочисленные исследования показывают, что эти черты действительно обладают значительной стабильностью, особенно когда человек вступает во взрослую жизнь. Мы, как правило, сохраняем свое относительное положение по этим шкалам по сравнению с другими людьми. Если вы были более экстравертированы, чем ваши сверстники в двадцать лет, то, с высокой долей вероятности, вы останетесь более экстравертированным и в пятьдесят. Это, конечно, льет воду на мельницу Грина и его идеи о предсказуемости поведения на основе неких устойчивых характеристик.