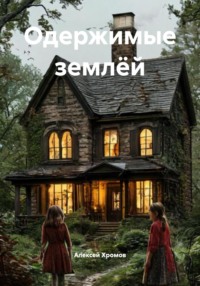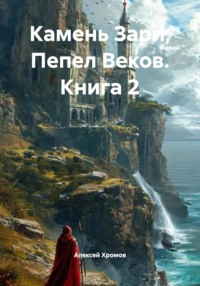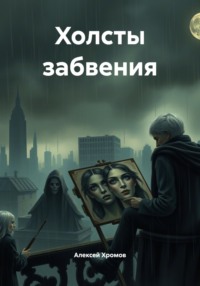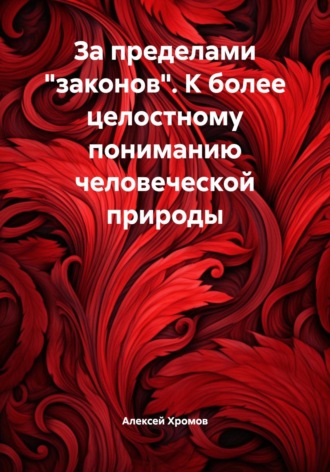
Полная версия
За пределами «законов». К более целостному пониманию человеческой природы
Но вот здесь крайне важно отойти от гриновского фатализма, от его идеи о несгибаемости этих черт. Стабильность – это еще не синоним полной неизменности, не приговор. Во-первых, существует то, что психологи называют «нормативной» изменчивостью: по мере того, как мы взрослеем, мы все, в среднем, становимся чуточку более добросовестными, более доброжелательными и менее нейротичными. Это своего рода «социальное созревание», естественный процесс. Во-вторых, действительно значимые жизненные события – будь то вступление в брак, рождение детей, крутой поворот в карьере, курс психотерапии, тяжелая болезнь или горькая утрата – могут ощутимо, порой кардинально, повлиять на наши личностные черты. Человек может стать гораздо более открытым новому опыту после увлекательных путешествий или заметно более добросовестным, получив ответственную, требующую самодисциплины работу. В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, люди способны сознательно работать над изменением определенных аспектов своего поведения, что со временем, при должном усердии, может привести и к заметным сдвигам в базовых чертах. Это требует усилий, саморефлексии, но это возможно! Так что, хотя наши черты и задают некий «коридор» нашего поведения, это вовсе не жесткие рельсы, с которых невозможно свернуть. Мы не просто пассивные носители застывших черт, мы – активные деятели, постоянно взаимодействующие с миром и способные к адаптации, обучению и личностному росту.
И, наконец, мы подходим к самому понятию характера. В отличие от более нейтральных, описательных черт личности, термин «характер» часто несет в себе выраженную морально-этическую окраску. Это то, что неразрывно связано с нашими глубинными ценностями, жизненными принципами, силой воли, честностью, ответственностью перед собой и другими. Характер – это та часть нашей личности, которая в наибольшей степени формируется под влиянием социума, культуры, в которой мы выросли, методов воспитания и, что особенно важно, сознательных усилий самого человека. Если темперамент – это наша данность, а черты – это сложный сплав этой данности и приобретенного опыта, то характер – это в значительной степени результат нашего свободного выбора и упорной работы над собой. Можно ли изменить свой характер? Безусловно, и даже более того – это то, что отличает зрелую личность! Истории людей, сумевших победить тяжелые зависимости, избавиться от разрушительных моделей поведения, развить в себе глубокое сострадание или несокрушимое мужество, – это не какие-то редкие исключения из правил, а живые свидетельства удивительной пластичности именно этой, ценностно-ориентированной, волевой части нашей личности.
Грин, с его настойчивым фокусом на «чтении» якобы неизменных паттернов ради предсказания и влияния, трагически недооценивает именно эту динамическую, способную к трансформации природу и характера, и даже, как мы видим, черт личности. Его подход неизбежно склоняет к опасному навешиванию ярлыков («а, он такой, от него другого и не жди», «она всегда так поступает, это ее суть») и к полному игнорированию огромного потенциала роста, развития и позитивных изменений, заложенного в каждом из нас. Взгляд на личность как на нечто застывшее, раз и навсегда определенное, безусловно, удобен для манипулятора, стремящегося использовать чужие слабости и предсказуемые реакции в своих корыстных целях. Но такой взгляд катастрофически сужает и обедняет наше понимание человеческой природы. Он упускает из виду, что люди – это не просто набор фиксированных, легко просчитываемых «законов», а невероятно сложные, постоянно развивающиеся системы, находящиеся в непрерывном, живом диалоге с окружающим миром и, что еще важнее, с самими собой.
Итак, какой же вердикт выносит современная психология личности идеям Грина? Да, в нашей личности, несомненно, есть относительно стабильные компоненты, заложенные в нас генетически (темперамент) и сформированные под влиянием раннего опыта (базовые черты). Эти компоненты действительно оказывают существенное влияние на наше поведение и делают его, до определенной степени, предсказуемым. Однако эта стабильность – не абсолютная тюрьма, из которой нет выхода. Черты личности могут меняться и развиваться под влиянием жизненного опыта, окружения и, что очень важно, целенаправленных усилий самого человека. А характер, эта сердцевина нашей личности, связанная с нашими ценностями, убеждениями и волевыми качествами, еще более податлив к изменениям, самосовершенствованию и развитию. Игнорировать эту удивительную пластичность человеческой натуры, как это делает Грин ради построения своих всеобъемлющих «законов», значит обеднять наше понимание самих себя и других людей, лишая и себя, и их той надежды и той возможности на рост и позитивные изменения, которые и делают нашу жизнь по-настоящему человеческой. Вместо того чтобы воспринимать личностные паттерны как окончательный приговор, куда более продуктивно и гуманно рассматривать их как ценную отправную точку для глубокого самопознания, личностного роста и осмысленного развития.
4. Когда Мозг – не Камень, а Сад: Как теории научения и нейропластичность дарят нам ключ к переменам.Если предыдущее путешествие в мир психологии личности лишь приоткрыло калитку сомнений в идее абсолютной, каменной неизменности наших черт, то глубокое погружение в океан теорий научения и ошеломляющих открытий в области нейропластичности практически вымывает почву из-под ног фаталистического взгляда Роберта Грина. Его знаменитый «Закон 4», настойчиво призывающий нас распознавать и использовать якобы незыблемые, выгравированные в камне паттерны поведения людей, целиком и полностью зиждется на шатком предположении, будто прошлое безраздельно властвует над будущим, а характер – это нечто вроде древнего манускрипта с предначертанной судьбой, которую остается лишь прочесть. Но что, если сам этот «камень» – наш удивительный мозг и наша многогранная психика – обладает поистине волшебной способностью изменять свою структуру, свою форму, свои пути-дорожки под влиянием нового опыта, свежих знаний и, что самое главное, наших собственных сознательных усилий?
Теории научения, этот краеугольный камень всей психологии ХХ века, рисуют нам совершенно иную, куда более динамичную и обнадеживающую картину формирования нашего поведения. В отличие от гриновской идеи о врожденных, жестких, как стальной каркас, паттернах, они во весь голос заявляют о первостепенной роли опыта, взаимодействия со средой, того непрерывного диалога, который мы ведем с миром с первого до последнего вздоха. Вспомним хотя бы азы, те самые три кита, на которых держится наше понимание того, как мы учимся жить. Классическое (павловское) обусловливание учит нас тому, как мы связываем стимулы в единые цепочки. Прежде совершенно нейтральный звук звонка, если он регулярно предшествует появлению еды, начинает вызывать у собаки обильное слюноотделение. И точно так же у людей формируются мириады эмоциональных реакций: липкий страх перед дверью стоматологического кабинета после болезненного укола, теплая волна радости при виде логотипа любимого бренда, который прочно ассоциируется с приятными моментами, или внезапный приступ тоски от едва уловимого запаха, напомнившего о давно ушедших временах. Эти ассоциации могут быть невероятно сильными, цепкими, но важно помнить – они приобретены, а значит, чисто теоретически, могут быть ослаблены, перестроены или даже полностью стерты (как это с успехом делается в современных методах лечения фобий и тревожных расстройств). Затем на сцену выходит оперантное (скиннеровское) обусловливание, которое объясняет, почему мы стремимся повторять то поведение, которое приносит нам «пряник», и всеми силами избегаем того, за которым следует «кнут». Малыш с усердием убирает разбросанные игрушки, чтобы заслужить ласковую похвалу мамы; офисный сотрудник задерживается допоздна, чтобы получить вожделенную премию; мы инстинктивно отдергиваем руку от горячей плиты после первого же болезненного ожога. Это фундаментальный механизм формирования наших привычек, как полезных (например, регулярные занятия спортом, приносящие бодрость и хорошее самочувствие), так и откровенно вредных (скажем, привычка «заедать» стресс, дающая лишь кратковременное, иллюзорное облегчение). И снова – это выученное поведение! Изменив систему подкреплений, пересмотрев наши внутренние «награды» и «наказания», мы можем коренным образом изменить и само наше поведение. И, наконец, не забудем о социальном научении Альберта Бандуры, которое подчеркивает, что мы – существа социальные, и львиную долю знаний и умений мы получаем, просто наблюдая за другими, подражая их поведению, и видя, к каким последствиям приводят их действия (так называемое викарное научение). Маленькие дети учатся говорить, правильно держать ложку, проявлять агрессию или, наоборот, сочувствие, внимательно глядя на родителей, копируя старших братьев и сестер, подражая героям любимых мультфильмов. Мы бессознательно перенимаем те модели поведения, которые считаются успешными, одобряемыми, престижными в нашей социальной группе, в нашей культуре. Все это ярко демонстрирует колоссальную роль нашего окружения и культурного контекста в формировании тех самых «паттернов», о которых так много говорит Грин.
Все эти теории, сплетаясь в единое полотно, убедительно доказывают: значительная, если не преобладающая, часть того, что Роберт Грин высокопарно именует глубоко укоренившимся «характером» или «навязчивым поведением», на самом деле является результатом сложного, многоэтапного процесса научения. Это не какая-то мистическая, неотвратимая судьба, а скорее замысловатый узор из сформировавшихся нейронных связей и поведенческих сценариев, созданных нашим мозгом в ответ на пережитый опыт, на радости и горести прошлого. А если что-то было однажды выучено, значит, существует принципиальная, незыблемая возможность это переучить, разучиться или научиться чему-то совершенно новому, более адаптивному и здоровому.
И вот здесь, на пике нашего воодушевления, на сцену выходит истинная королева современных нейронаук – ее величество нейропластичность. Долгие, долгие годы научный мир пребывал в заблуждении, считая, что мозг взрослого человека – это нечто статичное, застывшее, как античная статуя; что его сложнейшая структура окончательно формируется в детстве и отрочестве, а затем остается практически неизменной до самой старости. Однако сегодня мы с полной уверенностью знаем, что это далеко не так! Наш мозг обладает поистине удивительной, захватывающей дух способностью изменяться как физически, так и функционально на протяжении всей нашей жизни. Он меняется в ответ на новый опыт, на обучение, на наши мысли и чувства, и даже на физические и душевные травмы.
Представьте свой мозг как гигантскую, запутанную сеть автомобильных дорог и тропинок – это ваши нейронные пути. Каждый раз, когда вы думаете определенную мысль, испытываете какую-то эмоцию или совершаете привычное действие, вы как бы «проезжаете» по одной из этих дорог. И чем чаще вы используете какой-то конкретный путь, тем шире, ровнее, накатаннее и быстрее он становится – так происходит укрепление синаптических связей между нейронами. Именно так, путем многократного повторения, и формируются наши привычки, автоматические реакции, те самые «паттерны», о которых с таким знанием дела рассуждает Грин. Они действительно могут стать очень глубоко «укоренившимися», похожими на глубокую, хорошо накатанную колею, из которой, кажется, уже невозможно выбраться.
Но великая новость заключается в том, что нейропластичность означает: мы вовсе не обречены вечно ездить по одним и тем же избитым колеям! Мы можем: во-первых, прокладывать совершенно новые дороги – изучение иностранного языка, освоение музыкального инструмента, приобретение новых профессиональных навыков или даже просто разгадывание кроссвордов – все это буквально создает новые нейронные связи, новые пути в нашем мозге. Во-вторых, мы можем расширять и укреплять уже существующие, но полезные для нас дороги – практика осознанности и медитации, развитие эмпатии и сострадания, тренировка самоконтроля и силы воли – все это делает соответствующие нейронные сети более мощными и эффективными. И в-третьих, что не менее важно, мы можем позволять старым, неиспользуемым, вредным дорогам постепенно зарастать травой забвения. Если мы сознательно перестаем практиковать старую, деструктивную привычку или нежелательную модель поведения (например, бросаем курить или учимся справляться со вспышками гнева, выбирая другие, более конструктивные реакции), то соответствующие этой привычке нейронные пути со временем ослабевают и атрофируются (этот процесс называется синаптическим прунингом, или «прореживанием»).
Конечно, этот процесс изменения не всегда легок и быстр, как по мановению волшебной палочки. Перестройка глубоко укоренившихся паттернов, особенно тех, что были заложены в самом раннем детстве или сформировались под влиянием тяжелого травматического опыта, требует значительного времени, огромных усилий, непоколебимой осознанности и, нередко, квалифицированной помощи со стороны психотерапевта. Но сам неоспоримый факт существования нейропластичности начисто опровергает гриновскую идею об абсолютной, фатальной неизменности человеческой натуры. Наш мозг – это не холодный, безжизненный камень, а скорее податливый, живой, пластичный материал, непрерывно меняющий свою форму и структуру под воздействием наших мыслей, наших чувств, наших действий и всего нашего жизненного опыта.
Что же все это означает для нашей попытки деконструировать «Закон 4» Роберта Грина? Это означает, что его настоятельный совет «распознать неизменный паттерн» – это лишь половина, и, возможно, даже менее важная половина, всей истории. Да, безусловно, полезно понимать существующие тенденции в поведении – как в своем собственном, так и в поведении других людей. Это дает нам определенную предсказуемость и помогает ориентироваться в сложном мире человеческих отношений. Но гораздо, несравнимо важнее осознавать, что эти тенденции, эти «паттерны», вовсе не являются пожизненным приговором, окончательным и не подлежащим обжалованию. Тот самый человек, которого Грин мог бы с легким сердцем списать со счетов как «заведомо недальновидного и обреченного на провал» или как «неисправимо вспыльчивого и неспособного к самоконтролю», на самом деле обладает данной ему природой биологической способностью измениться, вырасти, стать лучше.
Роберт Грин предлагает нам стать искусными, но холодными «чтецами» чужих судеб, якобы навечно высеченных в их характере. Нейронаука и теории научения предлагают нам нечто гораздо более волнующее и вдохновляющее: уникальную возможность стать подлинными авторами своей собственной судьбы, активно и сознательно формируя и изменяя свои собственные паттерны мышления, чувствования и поведения. Вместо того чтобы фаталистически склонять голову перед своими (или чужими) «навязчивыми» чертами, воспринимая их как неизбежную данность, мы можем и должны рассматривать их как выученные когда-то стратегии выживания, которые, возможно, были полезны и адаптивны в прошлом, но теперь, в изменившихся условиях, могут и должны быть пересмотрены, перестроены, а то и вовсе отброшены.
Фокусировка Грина на неизменности и предсказуемости, безусловно, удобна для создания простых и понятных правил игры во власть, контроль и манипуляцию. Но она трагически игнорирует один из самых фундаментальных, самых драгоценных аспектов человеческой природы – нашу врожденную, глубинную способность к адаптации, обучению, росту и непрерывной трансформации. Признание этой удивительной способности открывает перед нами двери не к холодному предсказанию и циничному использованию слабостей, а к безграничному развитию, духовному росту и, в конечном счете, к гораздо большей, подлинной свободе воли.
5. Переписывая сценарий души: Как Когнитивно-поведенческая терапия ломает гриновские «железные» паттерны.Если теории научения и ошеломляющие открытия в области нейропластичности подарили нам саму идею, теоретическое и биологическое право на перемены, то когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – это настоящий набор слесарных инструментов, тот самый гаечный ключ, который позволяет нам на практике эти перемены осуществить. КПТ, одно из наиболее исследованных, признанных и, что самое главное, эффективных направлений современной психотерапии, стоит, как скала, в резком, почти вызывающем контрасте с тем фаталистическим, мрачноватым подходом, который Роберт Грин проповедует в своем видении «навязчивых паттернов» человеческого поведения. Там, где Грин видит почти незыблемую, высеченную в граните судьбу, лишь ждущую, чтобы ее распознали и хитроумно использовали (либо в своих, либо против чужих интересов), КПТ обнаруживает сложный, но вполне поддающийся изменению клубок выученных, хотя и часто доведенных до автоматизма, связей между нашими мыслями, нашими чувствами и нашими действиями. И эти связи, утверждает КПТ, не только можно, но и нужно изменять, если мы хотим улучшить качество своей жизни, стать свободнее и счастливее.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.