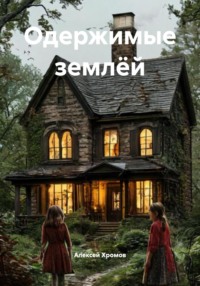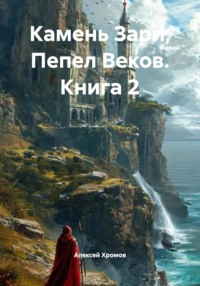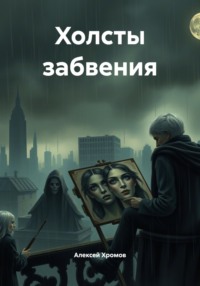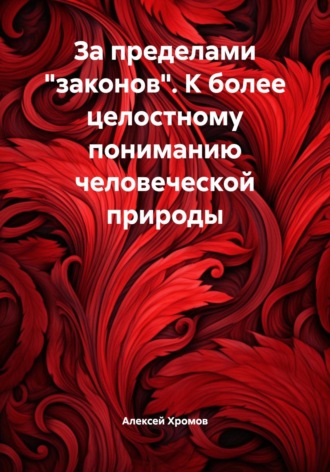
Полная версия
За пределами «законов». К более целостному пониманию человеческой природы
Неотступным спутником такой жизни становится тревога и липкий страх разоблачения. Этот страх – как Дамоклов меч, вечно висящий над головой: «А вдруг кто-то заметит подделку? Вдруг маска предательски сползет в самый неподходящий момент? Что, если все увидят мое настоящее, такое несовершенное лицо?». Этот давящий ужас отравляет каждый момент, не давая расслабиться, насладиться простыми радостями, быть спонтанным и живым.
Наконец, цинизм и недоверие ко всему миру. Когда сам живешь в режиме постоянной игры и просчитанной неискренности, очень легко начать видеть этот же маскарад и в других. Мир в глазах такого игрока превращается в кривое зеркало, где все кажутся такими же искусными манипуляторами, прячущими свои истинные мотивы. Доверие испаряется, уступая место горькому цинизму, и этот порочный круг отчуждения лишь замыкается плотнее.
Маэстро Грин, рисуя образ искусного кукловода, дергающего за ниточки ради власти и успеха, часто обходит молчанием эту изнанку медали. Он может даже напустить флер романтики на фигуру виртуозного стратега. Но в этом блестящем описании стратегий и тактик теряется главное – упоминание о той внутренней цене, которую нередко приходится платить за такой пожизненный контракт с ролью.
Безусловно, все мы играем социальные роли, и доля «управления впечатлением» – неизбежная часть жизни в обществе. Но превращать всю свою суть, каждый вдох и выдох, в непрерывную, сознательно разыгрываемую партию, как это порой читается между строк у Грина, – это путь к духовному истощению, самоотречению и глубочайшему одиночеству, даже если внешняя картинка сияет всеми красками успеха. Возможно, здоровый баланс между умением адаптироваться к миру и верностью собственной душе – это сокровище куда более ценное для долгого и счастливого плавания по реке жизни, чем самое виртуозное владение всеми масками мира. Ведь истинный успех – это не только достижение внешних целей, но и гармония с самим собой, когда не нужно прятаться за семью замками от себя и от других.
5. Голый король или новое платье для Искренности: Почему мир устал от вечного маскарада.Представьте, что вы листаете старинный фолиант, исписанный каллиграфическим почерком – «Искусство быть Невидимым» от Роберта Грина. Там, среди пыльных страниц, оживают фигуры прошлого: хитроумные придворные, чьи улыбки скрывали кинжалы, безмолвные полководцы, для которых лицо было лишь полем для стратегических маневров, дипломаты, чьи слова были туманнее лондонского утра. В их мире, где каждый шорох мог стать последним, маска была не просто аксессуаром – она была броней, ключом к выживанию, билетом в высшую лигу. Но что, если мы захлопнем этот фолиант и посмотрим в окно на бурлящий XXI век? Нужны ли нам сегодня эти старинные рецепты скрытности, когда мир вокруг требует совсем другой мелодии?
Похоже, сам ветер истории меняет направление. Веками мы учились строить неприступные стены вокруг своей сути, но сегодня все громче звучит запрос на нечто иное – на прозрачность, почти забытую, и на ту самую уязвимость, которую так долго считали ахиллесовой пятой. Этот свежий бриз перемен врывается в самые разные уголки нашей жизни.
Первым под его натиском меняется пьедестал лидера. Вспомните классический образ: монолитная фигура, высеченная из гранита, непогрешимая, знающая ответы на все вопросы, никогда не показывающая ни тени сомнения – эдакий «железный Феликс» во главе. Но сегодня этот образ трещит по швам. Исследования и живая практика говорят нам о новых героях. Теперь ценятся лидеры с живым сердцем, а не с программой вместо души, те, кто не боится быть настоящим, кто сверяет свой путь с внутренним компасом ценностей. Их честность и верность себе – как магнит, притягивающий искреннее доверие и желание следовать за ними, а не из-под палки. Даже уязвимость перестает быть синонимом слабости и становится пропуском к сердцам. Только представьте: капитан корабля, попавшего в шторм, честно говорит команде: «Я не знаю, что ждет нас за этой волной, но вместе мы найдем путь». Когда лидер не боится показать свою человечность, признать ошибку, попросить о помощи, это не рушит его авторитет, а, наоборот, строит мосты доверия, являясь актом смелости, делающим команду сильнее. И, конечно, прозрачность ценится как свежий воздух: открытый диалог, честный разговор о проблемах и победах, ясные планы – все это рассеивает туман недоверия и сплетен, который неизбежно сгущается там, где царит тайна. В такой атмосфере люди чувствуют себя частью чего-то большего, а не винтиками в чужой игре.
Но не только в кабинетах и на трибунах этот ветер освежает воздух. В пространстве наших личных связей он, пожалуй, еще более ощутим. Все мы немного устали от безупречных, отфильтрованных картинок в социальных сетях, от вечного карнавала «идеальной жизни». Душа жаждет подлинности, чего-то настоящего, с трещинками и неровностями, но живого. Ведь разве можно построить глубокую дружбу, страстную любовь или крепкую семью, если мы постоянно прячемся за слоями грима и отрепетированных фраз? Это как пытаться согреться у нарисованного камина. Искренние, доверительные отношения расцветают лишь там, где мы осмеливаемся быть собой, не боясь показать свою «неидеальную» изнанку. Да и сама ткань общества становится более чувствительной. Мы все чаще требуем этики и ответственности – от могущественных корпораций до публичных персон. Одной лишь сверкающей витрины «успеха» уже недостаточно. Людям интересно, какими путями этот успех был достигнут, нет ли за ним скрытых темных пятен. И сегодня скандалы, связанные с обманом, манипуляциями и нечестной игрой, вспыхивают и гасят репутации с молниеносной скоростью, о которой не могли и мечтать интриганы прошлых эпох.
Что же это означает для мудрости из старинного фолианта Грина? Для его Третьего Закона, где маска – это альфа и омега? Конечно, люди не перестали в одночасье играть роли и думать о том, как их воспринимают. Театр жизни продолжается. Но акценты смещаются кардинально. То, что Грин преподносит как вечный закон успеха – непроницаемая скрытность, холодный расчет, игра на грани искусства – сегодня во многих ситуациях может обернуться настоящей ловушкой для самого игрока. Чрезмерная закрытость и любовь к манипуляциям могут стать причиной сокрушительной потери доверия – будь то команда, деловые партнеры или близкие люди. Такие тактики могут выглядеть просто устаревшим оружием: подход, эффективный в коридорах королевского дворца, рискует оказаться бесполезным или даже вредным в динамичной, открытой культуре, где ценятся скорость и честность. Более того, общество становится все более зорким и нетерпимым к обману, поэтому постоянное маскирование рискует получить черную метку неэтичности на репутации.
Да, мир не стал в одночасье кристально чистым и честным. Манипуляторы и мастера маскировки никуда не исчезли. Но сама тональность эпохи изменилась. Прозрачность, аутентичность и смелость быть уязвимым все чаще видятся не признаками наивности или слабости (как, возможно, показалось бы Роберту Грину), а атрибутами настоящей силы, мужества и той самой основой, на которой в XXI веке строятся долгосрочные и подлинные отношения. И на этом фоне гриновский призыв к вечному маскараду кажется все более похожим на инструкцию по выживанию в давно исчезнувшем мире, оторванную от пульса современной жизни и ее новых, куда более человечных, ценностей.
6. Маскарад теней: Искусство обмана имени Роберта Грина, или когда улыбка становится оружием.Погодите, здесь важно уловить тонкий, но решающий нюанс: Роберт Грин не просто наблюдатель из театральной ложи, замечающий, что актеры на сцене жизни носят маски. О нет, он – сам режиссер-постановщик, вручающий вам сценарий и набор «идеальных» лиц-масок, чтобы вы играли главную роль в пьесе под названием «Ваш Успех». И именно в этом шаге от простого наблюдения к активному конструированию своей личины и кроется тонкий, но отчетливый аромат манипуляции.
Что же это за «идеальная маска» в арсенале гриновского стратега? Это не просто карнавальный аксессуар или вежливая улыбка, натянутая ради приличия. Это тщательно выкроенный и подогнанный костюм, призванный служить весьма конкретным целям. Во-первых, он должен стать непроницаемым щитом для ваших истинных замыслов. Пусть никто не догадается, чего вы хотите на самом деле, куда метите, где ваша ахиллесова пята. Это дает вам преимущество внезапности и надежно защищает. Во-вторых, эта маска – ваш личный прожектор, высвечивающий именно тот образ, который выгоден в данный момент. Хотите выглядеть несокрушимым титаном? Пожалуйста. Мудрым старцем? Легко. Безобидным ягненком? Без проблем. При этом неважно, есть ли у вас эти качества на самом деле – главное, чтобы поверили другие.
Но это еще не все. «Идеальная маска» Грина – это и дирижерская палочка, которой вы управляете оркестром чужих эмоций и реакций. Она способна вызвать доверие, пробудить симпатию, посеять страх, внушить уважение или даже вызвать волну жалости – все зависит от того, какая мелодия вам нужна, чтобы чужие действия зазвучали в унисон с вашими планами. А порой это – искусная приманка: маска дружелюбия и глубокого понимания может развязать язык самому скрытному собеседнику, заставив его выложить на блюдечке ценные секреты, которые он никогда бы не доверил вашему истинному «Я». И, конечно, виртуозный игрок, по Грину, – это хамелеон, способный менять эти личины так стремительно, что противники теряются в догадках, постоянно ощущая напряжение и непредсказуемость.
В чем же здесь фокус, спросите вы? Где та грань, за которой вежливая улыбка превращается в оружие? Манипуляция, как мы знаем, это когда кто-то дергает за ниточки, чтобы другой плясал под его дудку, часто даже не подозревая об этом, а его собственные интересы и свобода воли отходят на второй план. И «идеальная маска» Грина – это, по сути, швейцарский нож для такого кукловода. Она лжива по своей сути: вы сознательно лепите фальшивый образ себя, своих мотивов, а то и чувств. Ее цель – не просто вписаться в компанию, а незаметно взять штурвал чужого восприятия, а значит, и поведения. Отношения с людьми превращаются в поле для экспериментов, а сами люди – в фигуры на шахматной доске, которыми можно и нужно управлять с помощью удачно подобранного фасада. А честность? Искренность? Эти наивные добродетели сбрасываются за борт, как ненужный балласт, ведь «цель оправдывает средства» – вот негласный девиз этой игры.
Конечно, кто-то скажет: «Но позвольте, разве мы все не немного актеры в этом мире?» Да, отчасти это так. Социальные роли и желание произвести хорошее впечатление – часть человеческой природы. Но Грин толкает нас гораздо дальше – от простого осознания социальной игры к превращению ее в осознанную, хладнокровную и, давайте будем честны, зачастую нечистоплотную стратегию тотального доминирования. Он искусно размывает границу между жизненной необходимостью адаптироваться и циничным расчетом манипулятора, прячущегося за вывеской «искусства управления впечатлением».
Так что, когда Грин с видом знатока рассуждает о важности «пошива» собственных масок, не стоит обманываться. Это не дружеский совет по развитию навыков обаяния и умения находить общий язык. Нет, это скорее мастер-класс по освоению тонких, а порой и откровенно грубых, техник психологического джиу-джитсу, где фасад – это не что иное, как хорошо заточенное оружие в вечной битве за власть и влияние.
7. Жизнь напоказ, или как соцсети превратили всех нас в актеров Большого театра Иллюзий.Помните театр жизни, о котором с таким знанием дела рассуждал Роберт Грин, где каждый из нас – актер со своей, тщательно продуманной ролью? Так вот, с появлением социальных сетей этот театр разросся до невероятных размеров, сцена стала глобальной, а спектакли идут круглосуточно, без антрактов и выходных. ВКонтакте ,TikTok, Одноклассники и легион им подобных – это уже не просто доски объявлений, а настоящие цифровые подмостки, где разворачивается бесконечный карнавал масок, а правила ролевых игр сверкают всеми гранями, порой принимая самые причудливые формы.
Как же этот новый, сверкающий мир соцсетей перекликается с древними, как сам обман, идеями Грина о всеобщем маскараде?
Во-первых, он возвел в абсолют стремление к "идеальной маске". Если раньше приходилось изворачиваться в реальной жизни, то теперь соцсети – это просто мечта любого режиссера собственного имиджа! Мы словно ювелиры, отбирающие лишь самые сверкающие камни для своего ожерелья: только лучшие фотографии, самые остроумные мысли, самые впечатляющие достижения. И вот перед нами – лента, полная отфильтрованных, отретушированных, часто безбожно приукрашенных версий чужих жизней. Маски успеха, безграничного счастья, идеальной красоты, глубокого ума – они смотрят на нас с каждого экрана. Грин, наверняка, удовлетворенно хмыкнул бы: «Я же вам говорил! Мир соцсетей – это моя теория в действии, доведенная до совершенства!»
Во-вторых, каждый наш пост, каждая мимолетная «сторис» – это полноценное выступление перед постоянно растущей аудиторией. Лайки, восторженные комментарии, репосты – это шквал аплодисментов, а их отсутствие или, не дай бог, негатив – это ледяной свист из зала. Такая мгновенная обратная связь, конечно, подстегивает «актера» еще усерднее работать над своим образом, полировать маску до блеска, чтобы не разочаровать публику и не упасть с пьедестала.
Затем, эти новые подмостки породили и своих, уникальных персонажей, новые амплуа. Встречайте: «блистательный инфлюенсер», излучающий успех и легкость бытия; «просветленный эксперт», сыплющий мудростью с высоты своего дзена; «неисправимый оптимист-мотиватор», чья улыбка не сходит с лица даже во время всемирного потопа; «бескомпромиссный борец за вселенскую справедливость», готовый на амбразуру ради лайков; «загадочный интеллектуал» с томиком Ницше в руке; и, конечно, целая галерея «идеальных матерей, жен, мужей, путешественников», чья жизнь похожа на рекламный буклет. Люди выбирают себе такую роль по душе (или по тренду) и старательно следуют ей, создавая в онлайне цельный, выверенный до мелочей, но далеко не всегда совпадающий с реальностью, образ.
И, пожалуй, самое коварное – границы между сценой и закулисьем начали таять, как мартовский снег. Если раньше, по Гофману, можно было с облегчением сбросить маску, скрывшись от чужих глаз, то в мире, где телефон всегда под рукой, личная жизнь, потаенные мысли, мимолетные эмоции – все это может в мгновение ока стать достоянием публики, частью бесконечного перформанса. Эта размытость между истинным «Я» и той ролью, которую мы отыгрываем, может быть невероятно утомительной и даже опасной для хрупкого внутреннего мира (помните, какую цену мы платим за вечную игру?).
А для тех, кто жаждет полной свободы от своей реальной личности, есть еще и магия анонимности – маска абсолютной непроницаемости. Некоторые платформы позволяют скрыться за вымышленным именем, полностью отделив виртуальную личину от себя настоящего. Это может быть как источником безграничного творчества, так и выгребной ямой для самых темных сторон человеческой натуры – вспомните хотя бы армию интернет-троллей. И это снова как нельзя лучше подтверждает тезис Грина: под покровом тайны люди способны на многое, что не осмелились бы сделать с открытым забралом.
Но меняют ли социальные сети саму суть этой древней ролевой игры? С одной стороны, они, без сомнения, усиливают и делают до боли очевидными те тенденции к самопрезентации и управлению впечатлением, о которых говорили философы и социологи задолго до появления интернета. Инструменты для создания и полировки масок стали как никогда доступны и изощренны. Но с другой стороны, возможно, в этом цифровом зеркале зарождается и что-то новое. Постоянная видимость, мгновенное распространение любой информации делают поддержание фальшивой маски игрой с огнем. «Разоблачения», волны «отмен», беспощадные скриншоты, всплывающие в самый неподходящий момент, могут в одночасье разрушить годами выстраиваемый образ. И, быть может, именно этот страх, это постоянное «быть на виду» парадоксальным образом усиливает тот самый запрос на подлинность, на искренность, на прозрачность, о котором мы говорили ранее. Может быть, устав от фальшивого блеска, мы все чаще ищем настоящее золото.
В любом случае, ясно одно: социальные сети – это гигантская, бурлящая жизнью лаборатория и одновременно грандиозный полигон, где идеи Третьего Закона Роберта Грина проходят ежедневную проверку на прочность. Они, как увеличительное стекло, показывают, насколько глубоко в нас сидит это древнее стремление играть роли, но одновременно вскрывают и новые, куда более сложные и рискованные аспекты жизни в мире, где каждый из нас – потенциальный режиссер и главный актер собственного, бесконечного (само)представления.
8. Не одним аршином: Почему маски сидят по-разному на мужчинах и женщинах, и чем Восток отличается от Запада.Роберт Грин, с его любовью к грандиозным обобщениям, видит мир как единый маскарад, где каждый, движимый жаждой власти, стремлением защититься или искусством манипуляции, натягивает на себя подходящую личину. Но давайте на минутку остановимся и задумаемся: а так ли универсален этот карнавал? Неужели маски, которые мы выбираем (или которые нам навязывают), скроены по одному лекалу для всех и каждого? Ведь наш пол и тот культурный багаж, с которым мы пришли в этот мир, играют огромную, если не решающую, роль в том, какие роли нам дозволено играть, какие маски считаются «приличными», а какие – и вовсе немыслимыми. И эти тончайшие, но важнейшие нити Грин в своей монументальной схеме, увы, почти полностью игнорирует.
Давайте посмотрим на гендерные костюмы, которые общество так любит раздавать с самого детства. От сильного пола испокон веков ждали маски непробиваемой скалы, лица, высеченного из гранита, на котором не дрогнет ни один мускул, даже если внутри бушует шторм. «Мальчики не плачут» – этот невидимый шов стягивал любую попытку показать уязвимость или неуверенность, ведь это «не по-мужски», это слабость. А прекрасной половине? Ей вручали роли нежных фиалок, хранительниц очага, чьи слезы считались жемчужинами, а вот проявление амбиций, жесткости или, не дай бог, гнева – это уже «стервозность», «мужеподобие», явно не тот цветок, что ожидают увидеть в саду женственности.
И цели, ради которых надеваются эти маски, тоже могут быть разными, как небо и земля. Да, и мужчины, и женщины могут прибегать к ним для достижения своих высот, но сам воздух, которым дышит эта игра, может отличаться. Для женщин, особенно в мирах, где до сих пор правят бал патриархальные устои или откровенный сексизм, маска часто была (и остается) не столько оружием нападения, сколько спасательным кругом в бушующем море мужского мира: способом избежать непрошеных «комплиментов», не спровоцировать агрессию, казаться «милой» и «неопасной», чтобы просто выжить или пробиться в сугубо мужском коллективе. Мужская же маска чаще сверкала на солнце, как рыцарские доспехи в бесконечном турнире за статус, в вечной конкуренции, в демонстрации силы, где каждый взгляд – вызов. А женщинам часто доставалась незавидная роль эквилибристки на тонком канате двойных стандартов: будь лидером, но не слишком командуй; будь умна, но не дай бог, затмишь собой мужчину. Это требует такой изощренной и изматывающей игры теней и света, такого мастерства в управлении впечатлением, что гриновские стратегии порой кажутся детским лепетом.
А теперь давайте расширим нашу сцену и взглянем на культурные декорации, которые не менее властно диктуют свои правила. Представьте себе Восток, где лицо – это драгоценный фарфор, который нужно беречь пуще зеницы ока, как свое, так и чужое. В коллективистских культурах, где гармония в группе – высшая ценность, маски – это не столько инструмент обмана, сколько искусство тонкой настройки отношений. Они помогают избежать конфликта, не задеть чьи-то чувства, проявить уважение, соответствовать негласному кодексу группы. Высказать свои истинные мысли, если они режут слух или идут вразрез с общим мнением? Это почти святотатство. А теперь перенесемся на Запад, где громкий голос индивидуальности – лучшая музыка, где прямота и самовыражение ценятся куда выше. Но и здесь маски никуда не исчезают, просто они служат другим целям: продемонстрировать личный успех, уникальную компетентность, неповторимость своего «Я».
И язык эмоций, этот сложнейший из кодов! Культуры, как дирижеры, строго указывают, каким чувствам можно дать волю, а какие следует держать за семью замками. То, что Грин клеймит универсальной «маской» скрываемого гнева или печали, в одной части света – знак воспитанности и душевной тонкости, а в другой – печать фальши и неискренности. А его самоуверенные уроки по чтению чужих душ по едва заметным жестам и мимике? Это как пытаться читать японские иероглифы, зная только латиницу – ведь жесты, взгляд, даже комфортная дистанция при разговоре в разных уголках планеты несут совершенно разный смысл.
Что же все это значит для величественного закона Грина? Да, мир – это калейдоскоп масок, тут Грин, быть может, и прав. Но его попытка свести все мотивы к одной лишь жажде власти или обману, его универсальные советы по кройке и шитью этих личин – это как пытаться подогнать весь мир под лекала одного портного, игнорируя и фасоны, и материалы, и размеры. Он будто забывает, что «маска» может быть не только хитроумным орудием в руках эгоиста, но и способом тонкой адаптации к запутанным гендерным лабиринтам или совершенно необходимым инструментом для поддержания хрупкого социального равновесия в той или иной культуре. Его «закон» звучит так, будто написан для неких усредненных европейских аристократов эпохи абсолютизма или для современных американских бизнесменов, ведущих одну и ту же игру по одним и тем же, до боли знакомым ему правилам. А ведь реальность – это пестрый ковер, сотканный из тысяч нитей традиций, ожиданий и неписаных законов, и он куда сложнее, многограннее и живее, чем любая, даже самая хитроумная, универсальная схема.
9. Когда театр превращается в палату №6: Искаженные маски и разбитые зеркала души.Мы уже пришли к выводу, что легкий налет театральности, умение подбирать «социальные наряды» по случаю – это не просто норма, а скорее соль нашей общественной жизни. Мы все немного актеры, примеряющие разные роли в зависимости от сцены и аудитории. Но что, если этот спектакль затягивается настолько, что огни рампы слепят глаза, а грим въедается в кожу так глубоко, что уже не отличить, где заканчивается маска и начинается сам человек? Что, если вся жизнь – это лихорадочная смена образов без какой-либо опоры, без внутреннего компаса? Здесь мы пересекаем невидимую, но страшную черту, за которой ролевая игра превращается в болезненное искажение души, уводя нас на территорию психологических терзаний, известных как расстройства личности.
В этом зазеркалье искаженных «Я», проблемы с самоощущением, вечная турбулентность образа себя и специфическое, почти вынужденное жонглирование ролями – это не хитрый расчет по Грину, а кричащие сигналы бедствия, ключевые симптомы душевного недуга.
Представьте себе человека с пограничным расстройством личности (ПРЛ): его «Я» – это не монолит, а скорее калейдоскоп лоскутных, вечно меняющихся отражений. Сегодня он страстно верит в одно, завтра – с тем же пылом в совершенно противоположное. Его цели, ценности, даже его влечения могут совершать головокружительные кульбиты. В отношениях такие люди – как американские горки: от слепого обожания партнера до его тотального, испепеляющего обесценивания за один миг. Это не тонкая игра, это не стратегическое переключение масок – это скорее мучительное отражение внутренней разбитости, отчаянная, хаотичная попытка нащупать себя в этом мире или просто заглушить невыносимое чувство внутренней пустоты и страха быть покинутым.
А вот и другой персонаж нашей трагикомедии – человек с истерическим (гистрионным) расстройством личности. Это вечный актер на сцене, но его главный зритель и критик – это он сам, вернее, его неутолимая жажда быть в центре внимания. Вся его жизнь – это бесконечный спектакль, где поведение, внешность, слова – все служит одной цели: привлечь, удержать, заворожить взгляды. Их эмоции – как фейерверк: яркие, громкие, но часто быстро гаснущие, оставляя после себя лишь легкий дымок и ощущение чего-то ненастоящего, поверхностного. Здесь мотивация – не хитрый расчет для достижения власти, как у гриновского персонажа, а глубоко сидящая, всепоглощающая потребность во внимании и панический страх остаться незамеченным, слиться с серой массой.
Но есть и те, кто доводит искусство маскировки до поистине дьявольского совершенства, но уже в совершенно больном, разрушительном ключе – люди с антисоциальным расстройством личности, включая его крайние формы – психопатию или социопатию. Вот уж где маски используются виртуозно! Поверхностное обаяние, патологическая лживость, изощренная манипулятивность – весь этот арсенал служит одной цели: безжалостно использовать других людей ради собственной выгоды, без тени сомнения, без капли вины или запоздалого раскаяния. Знаменитая «маска здравомыслия», о которой писали исследователи, – это искусная ширма, за которой скрывается ледяное равнодушие, полное отсутствие эмпатии и циничное презрение к любым социальным нормам и человеческим чувствам. Это уже не игра по правилам общества, это безжалостная охота на него.