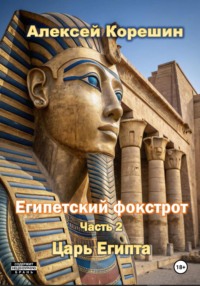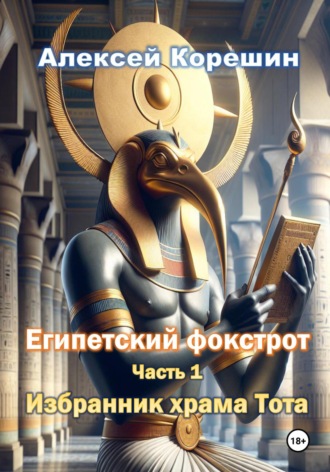
Полная версия
Египетский фокстрот. Часть 1. Избранник храма Тота
«Ну и затейники, эти египтяне», – Миша улыбнулся.
– Я ухожу в свой мир на несколько дней. К моему возвращению ты должен отобрать двадцать человек для моей охраны. Когда вернусь, я заберу их с собой и займусь боевой подготовкой. Семьи моих помощников обеспечь всем необходимым: едой, тканями, орудиями труда, скотом… чтобы они ни в чём не нуждались. Твои затраты будут восполнены с лихвой в самое ближайшее время. Учти, что для оценки кандидатов есть одно требование: все выбранные мужчины должны пройти проверку Взглядом. И делать это следует в верхних помещениях храма. Посторонним незачем знать о существовании тайного святилища. Надеюсь, радиус действия 162 камней, замурованных в стену, покрывает территорию комплекса?
– Да.
– Хорошо. Лишь после того, как Иескиль прочитает мысли кандидатов в охранники можно быть уверенным в правильности выбора. Сам понимаешь… видя человека в первый раз, да и во второй тоже, нельзя точно определить его натуру, поскольку внешний облик не всегда является отражением души.
«Чужая душа потёмки. Может он друг, может, враг, может, тайный соперник» (Борис Пастернак).
– Ты будешь беседовать с каждым кандидатом, затем молиться «Взгляду», чтобы он определил его пригодность к службе, ибо сохранность моей жизни превыше всего. История человечества знает немало сцен предательства.
«Tu quoque, Brute, fili mi! – И ты, Брут, сын мой!» – классический тому пример.
Многие люди готовы предавать за деньги… и… просто так, наслаждаясь реализацией врождённой подлости. А теперь попрошу тишины.
Закрыв глаза, он погрузился в медитацию.
Ответ Иескиля пришёл практически мгновенно.
«Ты выбрал правильную линию поведения. Для решения задач государственного масштаба необходимо обеспечить собственную безопасность на высшем уровне. Если жрец будет спрашивать совета, я ему отвечу».
Не открывая глаз, Миша поклонился.
«Не могу привыкнуть к этому ментальному общению. Слишком уж всё невероятно для человека, выросшего в современном обществе».
Сатхуб продолжал стоять на месте безмолвным истуканом.
Наставления продолжились.
– Бог Иескиль будет разговаривать с тобой по каждому из кандидатов. Спрашивай совета, молись, но не переусердствуй, не то можешь потерять доверие со всеми вытекающими последствиями, – сурово произнёс Миша. – Поручения нужно выполнять тщательно, не жалея сил и времени. А сейчас дай мне ткань и верёвку.
Кивнув головой, жрец поспешил к выходу из подземелья, и, спустя несколько минут, вернулся с внушительным отрезом льняной ткани и тонким пеньковым канатом. Разделив золотые слитки на две части и распоров полотно с помощью перочинного ножа, молодой Избранник перевязал два груза крест-накрест. Настало время прощаться.
– Когда я вернусь обратно, то доставлю с собой еду для нужд храма, вместе со значительным количеством меди и олова. В обмен на эти металлы ты наймёшь ремесленников, купишь рабов, и построишь большое здание для торговли. Ограждающую стену мы возведём позже. До встречи, Сатхуб!
Глава 11.
Уральский город.
Миша задержал дыхание.
В мыслях появился вид буквы «Z» на задней части железнодорожного товарного двора.
Хлопок…
Морозный воздух ворвался в лёгкие.
– Ух! – восклицание само вырвалось изо рта.
Накинув капюшон, он осмотрелся. В начинающихся декабрьских сумерках сквозь густые ветки кустарника виднелись лишь автомобили, проезжающие по расположенному неподалёку шоссе. Снег, вокруг один нетронутый снег…
Он опустил свёртки со слитками, поставив их возле ног, затем встал на колени и заполз в непролазную чащу кустарника. Найдя углубление у основания ствола, он сунул туда девять брусков, присыпав их снегом вперемешку с жухлыми листьями. Десятый слиток он засунул за пояс, до упора затянув кожаный ремень. Побродив туда-сюда, наделав кучу следов вдоль здания, будто здесь топталось стадо слонов, Миша побрёл в направлении автобусной остановки, не имея возможности вызова такси. Мобильник, с момента прилёта из Египта, путешествовал с ним только в моменты выхода в ближайший магазин.
«Местонахождение аппарата отслеживается сотовым оператором и, по запросу спецслужб, предоставляется в их распоряжение – всем известная истина».
Попасть под пристальное внимание репрессивных органов у Миши не было никакого желания.
«Я хочу пива, – материализовалось в голове. – Эта волшебная жидкость снимает все проблемы, превращая решение наиболее сложных из них в пустяковое дело».
На ум пришли строки из романа «Милый друг» Ги де Мопассана из домашней библиотеки Всемирной литературы.
«Дюруа замедлил шаг, – у него пересохло в горле. Жгучая жажда томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца».
«Меня тоже мучает жажда».
Миша купил в «Пятёрочке» три бутылки «Миллера» и наконец-то очутился в тёплой квартире. Первая бутылка была выпита чуть ли не залпом. В голове воцарились спокойствие и порядок.
«Так… Ольга. Мне нужно с ней переговорить», – открывая вторую бутылку, подумал Миша.
Гудки вызова закончились снятием трубки.
– Да, слушаю, – произнесла бывшая жена.
– Привет, – как можно спокойнее сказал Миша. – Твоё решение мне понятно, но оно имеет определённые юридические последствия, связанные с разделом имущества.
В динамике воцарилась тишина.
– Не бросай трубку, я предлагаю комфортный выход из ситуации.
– Какой же? – с плохо скрываемым сарказмом произнесла Ольга.
– А вот такой: мы встречаемся у нотариуса, и я подписываю договор дарения квартиры тебе, дорогая… ну и дачного дома… и земельного участка. Всё, что не является моим нижним бельём отходит к тебе. Устроит такой расклад?
Неопределённое мычание в ответ явилось синонимом слова «Да».
– В среду буду ждать тебя в 10-00. Улица Уральская 102, четвёртый этаж.
Сказано-сделано.
В назначенное время Дарственные были оформлены и официально зарегистрированы под недоверчивыми взглядами Ольги и явившегося с ней адвоката, в глазах которого читалась фраза: «В жизни так не бывает… – такого просто не может быть. А значит, впереди ожидаются… хм-м-м… сюрпризы».
Адвокат исподтишка разглядывал Мишу, будто пытаясь разгадать сложный ребус.
«Бывший муж моей клиентки чисто внешне не выглядит каким-то особенным, но чует моя задница, что это не совсем так. Вернее – абсолютно не так, – размышлял опытный юрист, непроизвольно перебирая пальцами рук. – Слишком проницательный взгляд. Слегка насмешливый. Ощущения в моей нижней части туловища ещё ни разу не подводили, поскольку данный орган является прекрасным барометром, до крайности чувствительным на надвигающиеся неприятности. Впрочем, ощущения к делу не пришьёшь. Остаётся только ждать и держать ушки на макушке».
Выйдя на крыльцо офисного центра, Миша обратился к пока ещё официальной жене:
– Развод оформим потом, если тебе это будет нужно. И учти, что ещё месяц я буду жить в твоей квартире, затем можешь менять замок и распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению. Диффенбахию из большой комнаты я забираю с собой.
Упоминание о домашнем цветке заставило Ольгу встрепенуться.
«Да причём тут, нахрен, диффенбахия… когда происходят такие дела?» – читалось в её удивлённых глазах.
Но нет, растение, тщательно ухоженное, пересаживаемое время от времени в свежую землю, не имеет права умереть от жажды в пустой квартире. Это будет преступлением перед совестью. Миша твёрдо решил забрать не только отращиваемую верхушку, но и основной ствол.
«А остальное барахло пусть огнём горит, – подумал он. – Материальные блага как появляются, так и исчезают. В этой жизни имеет значение лишь правда от Сент-Экзюпери»: «Тu deviens responsable pour toujours de се que tu as apprivoise».
Мы в ответе за тех, кого приручили. («Маленький принц»)
Добрые дела, которые мы творим движимые любовью, приносят пользу окружающим, а иногда сделанное добро возвращается к нам сторицей. Добрые поступки совершаются лишь по зову сердца. Однако некоторым людям этой истины не дано понять, ибо алчность и корыстолюбие, подобно зловредным сорнякам, укоренились в душах грешников.
Утром следующего дня Миша доехал до места работы, где, после разборок с начальством по поводу двухнедельной отработки, послал шефа «к Бениной матери» (есть такая песня у Артёма Беркута), написав заявление по собственному желанию.
«Ноги моей здесь больше не будет!».
Дверь отдела кадров захлопнулась за его спиной.
«Не отрекаются любя, – не к месту взвыл в голове голос Аллы Пугачёвой. – Ведь жизнь кончается не за-а-автра…».
«Хм-м-м… при чём тут Алла Борисовна? Наверное, этот шторм в мозгах возник от нешуточного душевного волнения. Ведь увольнение со стабильно-доходного места работы являяется процессом, швыряющим человека в состояние жизненной неопределённости».
Глава 12.
Деловая поездка на север Уральского региона.
Мишин дальнейший путь лежал строго на север, в небольшой районный центр. В этом городке, численностью населения «под двадцать тысяч», находился интересующий его объект.
Однако дорога…
320 километров зимней трассы – это вам не пуп царапать. Огни населённого пункта показались вдали лишь под вечер.
Заночевать пришлось в гостинице.
«ДЛЯ ВАС» – называлось заведение, находящееся в отдельно стоящем трёхэтажном здании жёлтого цвета рядом с лесопилкой на самом въезде в город.
Расценки заведения приятно радовали слух.
– Место в двухместном номере, с телевизором и холодильником, стоит 500 рублей в сутки, – сообщила миловидная администраторша средних лет, являющаяся по совместительству горничной, прачкой и, возможно, ещё кем-нибудь… ведь сфера услуг не ограничивается перечнем служебных обязанностей. – Однако есть и определённый недостаток: в Вашем номере двери на замок не закрываются. Но Вы не огорчайтесь. В нашей гостинице воровства не бывает. Стоянка Вашего автомобиля, под светом прожектора и камерой видеозаписи, обойдётся 40 рублей. И тоже в сутки.
Заселившись в комнату со сломанным замком и приняв душ в общественной душевой комнате на этаже, Миша мгновенно вырубился под звук журчащих батарей отопления, пропускающих через себя воду, подогреваемую в котельной на дровах, пристроенной к дальнему торцу основного здания.
Назавтра его ждали великие дела.
Городок имел статус райцентра, с одной, входящей в него автодорогой с твёрдым покрытием, и двумя разнонаправленными грунтовыми дорогами, уходящими в стороны лесных посёлков. Цивилизация резко заканчивалась сразу же за городским кладбищем, расположенным на окраине городка, вместе с асфальтом, сферой услуг и бензоколонками.
Несколько раз в год Миша ездил рыбачить на местные горные реки, где, в прозрачной воде качества «Бон-Аква», на перекатах стояли стаи хариусов. Ловились и таймени – рыбины, весом от 5 до 10 кг, из семейства лососевых, обитающие в ямах под скалами.
Речной мелочью здесь считались «гальяны», или, как их именуют местные жители – «вандыши», заготавливаемые на зиму бочками, в пряном посоле, подобно балтийской кильке. Да ещё ельцы, фантастически вкусные в сушёном виде. Популяции обычных речных рыб, типа ершей, окуней, щук, краснопёрок… – в этих местах отсутствовали от слова «совсем».
«Видимо горная, кристально-чистая вода, вредит здоровью обитателей мутных равнинных водотоков и лягушачьих прудов. Ни карасей тебе, ни уклейки, ни падальщиков налимов…», – порой констатировал Миша.
Большим плюсом столь дальней рыбалки являлся тот факт, что в хариусах и тайменях не водилось никаких паразитов. Можно было наловить рыбы, присыпать солью и, спустя несколько часов, наслаждаться нежнейшим, розоватого цвета мясом.
«Вкус хариусов неповторим. Они не пахнут рыбьим запахом, подобно речным окуням, либо карасям, отдающим болотной тиной. Благородный, тающий во рту шедевр, созданный природой Севера – этот выбор доступен далеко не всем людям».
Миша натурально подсел на эти рыбалки, эти горные реки, с нависающими над речной гладью красными скалами, где, на километры вокруг, нет ни единого человека, приезжая сюда вновь и вновь.
«Здесь, в наших таёжных местах, нет ни милиции, ни полиции… здесь волк-прокурор, – ранее наставляли Мишу жители местных деревень. – Имей в виду, что каждый человек, которого ты встретишь в тайге, либо на берегу реки – обязательно вооружён, чаще всего огнестрелом, хотя, порой этого и не видно. Ружьё может лежать в его лодке, охотничьей избушке… либо обрез, заряженный картечью, может скрываться под дождевиком. Разговаривай со всеми культурно, если просят помощи – помоги. И не смотри на то, что повстречавшийся человек похож на бомжа. Если позволишь себе брякнуть лишнее, либо решишь пальцы гнуть – можешь остаться там навечно, на закуску медведям. Они любят всякую падаль».
В этом райцентре всего каких-то двадцать лет назад жизнь била ключом. Два мощных промышленных предприятия работали в три смены. Одно из них изготавливало на финских бумагоделательных машинах высококачественную мелованную бумагу для офсетной печати, второе же – добывало алмазы известного торгового бренда.
Как ни странно, «лихие девяностые» для данного населённого пункта прошли совершенно незаметно.
Всё пошло прахом уже после празднования миллениума и начала восстановления экономики страны под руководством нового президента.
Первым загнулся ЦБК.
«Вот бы столько леса было в Финляндии, – иногда думал Миша. – Тогда им не пришлось бы импортировать кругляк из России. Отправили лесовоз за 5 километров от комбината, навалили стволов в два обхвата сколько душа желает, и катай себе бумагу»
Сотни километров тайги вокруг, состоящей из вековых сосен и елей, казались железной гарантией благополучия жителей райцентра в обозримом будущем. Но происходящие в нашей стране события не всегда поддаются логическому осмыслению».
Спустя десять лет после закрытия ЦБК, в 2014 году, обанкротилось и ЗАО по добыче алмазов, намывающее ювелирные камни, попутно, и золото, в окрестных речках, начиная с 1946 года. Без работы остались ещё 730 местных жителей.
Ныне лишь заброшенные драги, похожие на многоэтажные самоходные здания из металла, одно из которых встало на вечную стоянку на виду у проезжающих автомобилей на «двадцать пятом» километре северной трассы, напоминают о былом величии легендарного предприятия. Да ещё расчищенные от деревьев рудные поля, с которых мощнейшие БелАЗы ранее увозили на промывку алмазосодержащую породу.
«По всей матушке России катится разрушительная волна, раздавливая тяжеловесным катком промышленность, вминая в грязь жизнь маленьких городков и калеча судьбы их обитателей. Лишь одна Москва жирует… просто бесится с жиру… снося пятиэтажки из жёлтого кирпича, вполне себе годные, ради строительства высотных «человейников», осваивая сотни миллиардов рублей, когда в остальной России полно прогнивших бараков с рушащимися балками перекрытий, крысами и протекающей в подвале канализацией. Однако ни Московская администрация, ни «эффективные менеджеры» в Доме Правительства на Краснопресненской набережной не внемлют мыслям о неуместности пира во время чумы.
И очень даже зря.
Дождутся когда-нибудь появления на Красной площади «Маски Красной смерти» («The Masque of the Red Death» – рассказ Эдгара По)», – подумалось уже на подходе к объекту.
Река брала своё начало в Уральских горах.
Протекая через государственный заповедник, минуя несколько лесных деревушек, она держала путь на юг, омывая окраину попавшегося на её пути городка.
Искомым «объектом» являлась территория бывшей продуктовой базы «Гастроном», расположенная непосредственно на берегу экологически-чистой реки. Здание основного терминала с административной пристройкой и пандусом для загрузки-выгрузки грузового автотранспорта виднелось издалека, «светя» ярко-синим профнастилом крыши общей площадью свыше одной тысячи квадратных метров.
Хозяином комплекса являлся Мишин друг по фамилии Калач, на которого можно было смело вешать бирку «тёртый». Вообще в этом городке мелкое производство, торговля и сфера услуг были поделены между несколькими семейными бизнес-кланами. Терещенко, Малков, Зверев, Калач, Жогаль – олигархи местного масштаба разъезжали на внедорожниках, хотя и жили относительно скромно, не шикуя, как столичные буржуи и нефтяные магнаты. Любую доставшуюся копейку они вкладывали в расширение собственного бизнеса. Что же касается местных жителей, кинутых собственным государством на произвол судьбы, то они вкалывали на частников за символическую зарплату.
«Не хочешь – не работай!» – сообщали хозяева простому люду, оплачивая их труд «чёрным налом», не заморачиваясь с пенсионными отчислениями и социальными гарантиями.
«Нынешние владельцы бизнеса в райцентрах – это вам не бумкомбинат с отделом кадров, бухгалтерией и строгой отчётностью. И не алмазодобывающая контора. Господа-коммерсанты из отдалённых мест всегда найдут способ на…ть (надуть, нагнуть) родное государство, – отстранённо размышлял Миша во время периодических посещений этого населённого пункта, затерянного на окраине таёжной бесконечности. – Вообще-то данным бизнесменам самим нужно доплачивать из бюджета, либо освобождать их от налогов – за трудоустройство граждан, ибо без их смекалки и деловой хватки все жители городка давно бы уже голодали, ведь пособия и пенсии обеспечивают лишь существование на уровне нищеты. Или, в качестве бомжей, мигрировали бы в Москву, под зонтик собянинского благоденствия, держащегося на обсасывании ресурсов со всей России. Так что, скажем «Калачам» большое искреннее СПАСИБО!».
Естественно, при таком положении вещей, административный район являлся депрессивной дотационной территорией, несмотря на золотые и алмазные россыпи, лесные богатства, водоёмы форелевого качества и невероятный туристический потенциал.
– Привет Паша! – увидев старого приятеля, радостно воскликнул Михаил.
– Ого! Каким ветром? – незамедлительно ответил молодой бизнесмен.
– Южным, батенька, южным…
– Да какой я тебе «батенька»? Я же не Владимир Ильич, – улыбнулся «тёртый» Калач. – Наверное хорошие вести принёс? Мы тут на северах, только «южняком» и питаемся, – видимо намекая асфальтированную трассу, приходящую в его город строго с юга, произнёс коммерсант.
Глянув в окно, Миша разглядел нескольких трудолюбивых таджиков, занятых выгрузкой древесного угля из герметичных конусных бочек, болтающихся на стальных тросах мостового крана.
– Видал, Миха! – перехватив направление взгляда, произнёс приятель. – Я тут новое производство открыл. Две «гансовские» печи, работающие на опилках, не только прожаривают деревяшки в контейнерах, производя уникальный уголь, содержащий невиданные 90% углерода, но и хитрым конверторным способом отапливают весь комплекс зданий. В итоге получается достойная прибыль. Мы вообще отключились от центрального отопления. По нынешним временам эта статья расходов способна разорить кого угодно, особенно в нашем городе, где зимние морозы давят под -50 градусов.
– Как это понимать – «печи на опилках»? Ни разу не слышал.
– Это очень хитрые немецкие печи, сжигающие даже мокрые опилки. Для этого нужен лишь мощный поддув сжатого воздуха, обеспечиваемый двумя промышленными компрессорами. Тонны образовавшегося от сжигания опилок пепла мы фасуем в пакеты и продаём в качестве удобрения. В окрестностях райцентра, – продолжил бизнесмен, – работают 178 лесопилок. Каждая из них производит внушительное количество опила, за складирование которого на производственной территории пожарники стали нещадно штрафовать. Вот я и вывожу от них, целыми Камазами, причём совершенно бесплатно, «производственные отходы». В наших с компаньонами проектах каждая копейка учтена, в результате чего достигнута максимальная эффективность производственного цикла.
А ещё в планах – сделать из местной, 30-метровой водонапорной башни, подобие останкинского ресторана «Седьмое небо». Этакую крутящуюся достопримечательность для туристов. Фундамент там надёжный, рассчитанный на нагрузку в сотни тонн. Надстроим круглую стеклянную башенку с моторчиком кругового привода, вставим в ствол лифт – и вот она: копия московского «Седьмого неба», с которого весь наш город будет виден как на ладони.
Вот только с инвестициями проблема. Всё, как у всех…
Кроме прочего, ещё и «графеном» хотим заняться. С нашим углеродным производством – сырья навалом. Отапливаемые площади в наличии, трудолюбивые сотрудники – тоже. Непьющие, дисциплинированные и аккуратные. С их небольшой зарплатой себестоимость любой продукции составляет сущие копейки. Сейчас на эту тему ведём переговоры с учёными одного столичного института.
– Да уж… У тебя в голове идей – пруд пруди, но где найти инвесторов?
– Вода камень точит. Несмотря на проблемы создадим, со временем, и «Седьмое небо», и графен, и производство сэндвич-панелей по раскройкам Закачика. Дела потихоньку идут в гору. Договора на поставку воды печём, как пирожки.
Основным видом Калачёвской деятельности являлось бутилирование сверхчистой горной воды, а также производство лимонадов.
Начав свою деятельность с газировки, спустя некоторое время, Паша выкупил территорию бывшей продуктовой базы и устроил в главном здании завод, мощностью 1000 десятилитровых банок в час… или 2000 пятилитровых… или 20000 поллитровых… с газом и без него. Сами бутыли и бутылочки выдувались в термокамере, прямо в цехе, рядом с полностью автоматизированной конвейерной линией. Для подачи воздуха в техническом помещении располагались два мощнейших компрессора «Kaeser» с ресиверами и системами осушения воздуха, стоимостью по 2 миллиона рублей каждый.
«Охренеть, как Паша развернулся!» – думал про себя Миша в прошлый приезд.
Сегодня же, увидев высокотехнологичную «выпечку» древесного угля, он просто потерял дар речи.
«Вот что значит крепкий хозяин».
– Откуда у тебя здесь таджики?
– Да так, сами напросились. Понимаешь, среди местных жителей эта работа считается грязной и низкооплачиваемой, но я физически не могу заплатить больше. Конкуренция на рынке, понимаешь ли. Да и государство с налогами поджимает. Однако власти никак не могут понять, что здесь не Москва. В этих краях выживает лишь тот, кто сведёт расходы к минимуму. Вот я и кручусь, словно белка из мультфильма. Вести дела по-другому… честно и порядочно… – не получается. Честные и порядочные предприниматели в нашем городе не выживают, – он усмехнулся. – Слишком суровый климат. И светлая память наивно-безбашенным оптимистам.
Бизнесмен деланно склонил голову.
– Офсетную бумагу в городе не больше производят, – продолжил он. – Алмазы и золото не добывают. Хариусов и тайменей, что водятся в горных реках – скоро всех выловят, а новых разводить… кто же на это денег даст? Государству плевать не только на биологические ресурсы региона, но и на провинциальных жителей. На словах о нас заботятся все подряд: и ГосДума, и краевое Законодательное собрание, и губернатор. На самом же деле – ровно наоборот.
Кстати… относительно таджиков.
Они очень довольны своим положением: проживают здесь бесплатно, питаются в столовой за мой счёт, да и зарплата у них, в переводе на сомани (таджикская валюта), вызывает жгучую зависть у земляков, проживающих в Горно-Бадахшанских и Кулябских кишлаках.
Миша многозначительно улыбнулся.
Словив посыл, Паша тут же съехал с темы, переключившись на деловую повестку.
– Слюшай, джура (тадж. – друг), – произнёс он. – Ты ведь пришёл по делу, давай выкладывай, что волнует.
– Да так… ничего особенного. Просто я нашёл тебе богатого инвестора.
При слове «инвестор» Калач вперил сосредоточенный взгляд в посетителя, мигом превратившись в собирательный образ дореволюционных купцов Рябушинских, владеющих заводами, банками, газетами, и, из поколения в поколение, приумножающих достояние предков. Девиз семьи Рябушинских звучал так: «Всё для дела – ничего для себя».
«Этот взгляд – хорошая примета».
Миша осмелел.
– Видишь ли, отец Павлунтий, – обращение к местному олигарху стало отдавать ироничной фамильярностью.
Тот, обратившись в слух, молча проглотил пилюлю.
– У тебя есть то, в чём нуждается мой босс. В свою очередь, тебе нужен ежемесячный кэш, желательно с шестью нулями. Так что… взаимные интересы понятны. Расскажу всё честно, поскольку тебя обмануть невозможно. Помнишь улётные частушки про евреев из 1980-х годов?
При слове «еврей» узкие тёмно-карие глаза Калача немедленно округлились, сделав его похожим на жителя Хайфы.