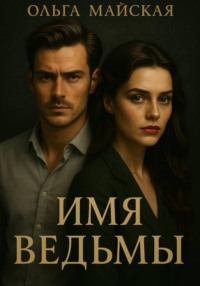Полная версия
Тень ведьмы

Ольга Майская
Тень ведьмы
Пролог
XI век, 1006 год
Деревня Белоозеро, близ Новгорода
Солнце низко висело над гладью озера, словно золотая монета, забытая в небе. Берег был усыпан опавшими листьями, ветер лениво шевелил их. С деревьев медленно осыпалась листва – сама земля готовилась ко сну.
В воздухе пахло прелой травой, дымом печей, капустой в кадках и свежеиспеченным хлебом. Осень выдалась теплой и долгой – и люди надеялись на мягкую зиму.
Мужики продолжали охоту, таская в деревню связки зайцев и уток. Женщины хлопотали по хозяйству: ворошили сено, ставили тесто, варили варево из лесных кореньев. А между протоптанных дорожек – среди сушеной рыбы и соломы – с визгом бегала детвора. Их смех перемешивался с криками ворон, что крутились над деревьями, как предвестники чего-то важного.
Сквозь толпу ребят с топотом пронеслась девчушка лет четырнадцати, вызвав за собой волну неодобрительного гула.
– Мать! – крикнула она, вбегая в избу, запыхавшись.
Они жили вдвоём. Мужа в доме не было уже много лет, и все здесь принадлежало только женским голосам и рукам.
– Чего орёшь, как окаянная? – мать выглянула из-за печи, вытирая руки о фартук.
Девочка остановилась, глядя на свои ладони, словно искала на них слова.
– Ну? – мать нахмурилась, уперла руки в бока. – То верещишь как блаженная, то молчишь. Говори уж!
– Бабка Ядвига померла! – выдохнула она. – Я пришла, а она лежит, шепчет чего-то. А я подошла… и она – всё…
Мать всплеснула руками и, забыв даже отругать, схватила платок и выбежала из избы.
Бабку Ядвигу знала вся деревня. Сухонькая, будто вырезанная из корня, она жила в избушке на краю, почти у леса. Люди ее побаивались и сторонились. Она не искала общения – и взаимностью не отличалась. Ходили слухи, что у неё есть книги, которых быть не должно, и травы, что растут лишь на болотах.
Но девчонку к ней тянуло с самого младенчества. Сначала – смотреть, как она сушит травы и варит густые отвары. Потом – просто сидеть рядом и слушать, как потрескивает печь.
Мать не одобряла этой тяги, особенно после того как соседка прошептала ей пару нехороших историй. Запретила ходить – строго. Но девочка упрямо продолжала.
Вот и в этот раз, управившись с делами, она побежала к старушке. Дверь была закрыта, никто не отзывался. Девочка постучала раз, другой. Помня, что бабка почти не слышит, она приоткрыла дверь и вошла без страха.
Внутри пахло травами, воском и чем-то горьким, как старое вино. В углу темнела полка с банками, под потолком висели пучки – багульник, полынь, зверобой. Печь ещё дышала теплом, но в комнате было тихо.
Бабка лежала на кровати. Глаза полуприкрыты, губы едва шевелятся – словно шепчет кому-то во сне.
– Подойди, – прошептала она. Голос был слабеющим, но ясным.
Девочка приблизилась. Ядвига неожиданно схватила её за запястье. Пальцы ее были сухими и горячими, как камни, лежавшие на солнце.
– Бери силу. Тебе теперь с ней жить. Принимаешь?
– Да… – прошептала девочка, не совсем понимая, что делает.
Старушка выдохнула. Рука её ослабла. И в ту же секунду девочка ощутила, как её кожу обожгло – изнутри на мгновение вспыхнуло что-то. Она вскрикнула и, не оборачиваясь, выбежала прочь.
Глава 1
XXI век, 15 октября 2018 года
Москва, МГУ
Утро выдалось ясным и каким-то слишком теплым для октября. На набережной у главного корпуса тянулся бесконечный поток студентов с рюкзаками и термокружками. Некоторые из них были ещё полусонными, другие – возбуждёнными и шумными, словно перед экзаменом. Но никто из них не обращал внимания на мелочи: на то, как странно себя вела погода, как тепло отдавали стены старого корпуса, будто хранили чью-то память.
Он вошёл в аудиторию за пятнадцать минут до начала. Вышел к кафедре, аккуратно разложил папки и посмотрел в зал.
Илья был моложе, чем ожидали студенты. Высокий, худощавый, в темно-синем пиджаке и в очках, он больше походил на аспиранта, чем на преподавателя. Однако в его голосе, жестах и походке чувствовалась уверенность. За плечами было больше десятка лекций, но эта – первая в новом семестре – всё равно вызывала легкое волнение. До него курс читал профессор Егоров – специалист старой закалки, суровый, с голосом, будто с кафедры вещал сам Иван Грозный. Но профессор внезапно ушёл на больничный, и кафедра решила, что пора попробовать новое лицо, и теперь перед студентами стоял Илья.
Он наблюдал за студентами, которые постепенно заполняли зал: кто-то сразу доставал ноутбук, кто-то раскрывал тетрадь, кто-то просто сидел, уставившись в экран. Он с интересом ловил интонации, фразы, взгляды – и, как всегда, невольно сравнивал их с собой в те же двадцать.
И только одно ускользало от его внимания.
На третьем ряду у прохода сидела девушка. Она пришла раньше других, села, не привлекая внимания, и всё время, пока он расставлял бумаги, просто… смотрела. Не прямо, а вскользь, её взгляд не касался его, но он всё равно ощущал это, пусть и не осознавал.
У неё были каштановые волосы, собранные в строгий жгут вокруг головы – не как у современных студенток, скорее как у кого-то из портретов в музее. Часть волос будто выгорела – светлые пряди мягко блестели на свету. Одетая просто: тёмные брюки, рубашка, никаких броских украшений. И всё же в ней было что-то неуловимое, что отделяло ее от других. Не красота, не одежда. Что-то в её осанке, в том, как она держала руки, и особенно – во взгляде. Он был цепкий, но не дерзкий. Спокойный, как у человека, который уже многое знает.
И только когда он заговорил, она впервые подняла на него глаза.
– Добрый день, – начал он, когда галдёж немного стих. – Сегодня мы с вами продолжим разговор о политике и культуре Древней Руси в XI веке. Предыдущие лекции, как я понимаю, касались крещения, междоусобиц, становления княжеской власти. А теперь мы приближаемся к фигуре, которую, пожалуй, можно считать одним из первых настоящих государственных деятелей на Руси – Ярославу Владимировичу, прозванному Мудрым.
Он сделал паузу и прошёлся вдоль кафедры, а затем взял в руки мел.
– Мы не будем ограничиваться только биографией Ярослава Мудрого, – начал он. – Нас интересует, как его правление повлияло на развитие Древнерусского государства, на юридическую и культурную систему, на само представление о власти. История – это не только факты, но и следствия.
Он рисовал на доске родословные, пометки, схемы. Говорил про «Русскую Правду», про реформы, про христианизацию и архитектуру. Студенты записывали. Почти все. Девушка – нет.
– Не забудьте, – подчеркнул он, – именно при Ярославе впервые создаётся идея передачи власти по старшинству, пусть и неудачная. Это было попыткой избежать междоусобиц… которая, как вы знаете, не сработала.
Когда он закончил, аудитория слегка оживилась. Кто-то потянулся, кто-то зашуршал рюкзаком. Он обвел всех взглядом:
– Вопросы?
Повисла пауза. И вдруг:
– Почему вы считаете, что Ярослав не был женат до брака с Ингигердой?
Он повернулся к говорящему. Девушка смотрела прямо на него.
– Эта версия не имеет достоверного подтверждения в летописях, – осторожно начал он. – Хотя в некоторых источниках упоминается мордовская княжна, иногда – дочь полоцкого князя. Но это версии, поздние вставки. Нет точного имени, нет указаний на статус.
– Но летопись Новгородская первая содержит намёк на жену, до брака со шведкой. Разве вы не считаете, что это стоит учитывать?
Илья чуть приподнял брови:
– Это поздняя версия, часто подвергаемая сомнению. В академических кругах она считается ненадежной.
– Но ведь есть и западные источники. В одной из германских хроник, кажется, у Бременского, говорится, что у Ярослава был сын до Ингигерды. Откуда он взялся?
Он замолчал, задержав на ней взгляд.
– Возможно… – начал он, но не закончил.
– Я просто думаю, – продолжила она, – что если он действительно уже был женат, то это меняет наш взгляд на его мотивацию, на борьбу с братьями. Он уже был князем, уже имел наследника. Возможно, он не просто защищал Новгород, а боролся за династическое право.
– Как вас зовут? – неожиданно спросил он.
– Вы можете называть меня Мила.
Разговор продолжался ещё несколько минут. Другие студенты сначала наблюдали с удивлением, потом – с интересом. Никто не перебивал. Их спор звучал как диалог двух людей, глубоко погруженных в предмет.
Когда занятие всё же завершилось, Мила поднялась, улыбнулась и тихо ушла, даже не обернувшись. Он хотел окликнуть её, но почему-то не решился.
Остаток дня Илья провёл в лекциях. Он говорил о феодальной раздробленности, о Византии, о реформе духовенства – но мыслями часто возвращался к утру. К её взгляду. К ее вопросам. К тому, как легко она ставила его в тупик. Он искал её глазами в других группах, но больше не видел.
Вечером он достал списки студентов – группы, которой читал утром. Ее имени там не было.
Он отложил лист, посмотрел в окно и подумал, что подождёт. Возможно, она придет на следующую лекцию.
Но на следующей лекции её не было.
Глава 2
XXI век, 15 октября 2018 года
Москва, ул. Знаменка
Квартира на четвертом этаже старого дома была почти идеально тихой. Только в открытое окно доносился редкий гул машин, проносящихся по ночной Москве, да из глубины дома слышались приглушённые звуки лифта – словно дыхание самого здания, не слишком глубокое, но и не совсем поверхностное.
Здесь, на Знаменке, всё было старым – в хорошем смысле. Старым, прочным, с историей. Стены этого дома видели больше, чем можно представить. Он стоял здесь с начала прошлого века, пережил смену эпох, взрывы, шествия, реформы. Лепнина на потолках напоминала о времени, когда на улицах ездили извозчики, а в окна домов стучал ветер революции. А теперь отсюда открывался почти не тронутый временем вид на Кремль. Улица Знаменка дышала величием и отстраненным спокойствием старой Москвы. Той, что не меняется, даже если всё остальное рушится.
Девушка купила квартиру еще в 30-х – вернее, получила за услугу. С тех пор многое изменилось в стране, но не в ней.
Мила повернула ключ и толкнула дверь плечом – замок всегда открывался с лёгким упрямством, будто дом не любил чужаков, даже если этот чужак – его хозяйка.
Пыльные солнечные полосы легли на деревянный пол. Город шумел за окнами, но здесь, было удивительно тихо. Эта квартира не была единственной в её распоряжении – но именно здесь Мила чувствовала себя… настоящей. Ни одной лишней вещи, ни показной роскоши. Только время, притаившееся в стенах.
Мила закрыла дверь и сняла легкое пальто, повесив его на крючок у зеркала. В прихожей пахло сухой лавандой. Она остановилась перед зеркалом и посмотрела на своё отражение.
Она давно не нуждалась в том, чтобы проверять свой внешний вид, но привычка осталась. Зеркало не врало. Оно показывало ту же самую женщину, что смотрела в него столетия назад: тонкие черты лица, мягкий изгиб шеи, высокие скулы. Волосы, цвета каштанового дерева, были аккуратно заплетены в жгут и перевязаны старинной серебряной булавкой. Она закрутила в руках выбившуюся прядку – когда-то тёмно-каштановая, теперь она отливала медным. Волосы выгорают, особенно летом, и особенно у тех, кто не меняется столетиями. С виду ей можно было дать лет тридцать в мягком свете. Может, меньше, если не приглядываться. Тело менялось, мода и слова вокруг – тоже. Но внутри, если заглянуть глубже в глаза, она оставалась той самой девочкой с новгородской земли. Та, что однажды – в чужой земле, среди мрака плена и дыма битв – в темном лесу у озера вызвала богов. Тогда, тысячи лет назад, она впервые произнесла их имена вслух – Перун, Жива, Лада – и попросила не любви, не власти, а силы. С тех пор она жила. Сквозь пожары, войны, чуму, империи и революции. Люди исчезали, менялись одежды, языки, дома. А она оставалась. Потому что боги ничего не дают просто так. Об этом она, впрочем, не вспоминала без нужды.
Она прошла вглубь квартиры – в кабинет, где почти не бывала в дневное время. Здесь окна были занавешены тяжёлой тканью, воздух пах старой бумагой, ладаном и чем-то еле уловимым, как старые страницы, впитавшие чужие тайны.
Комната была светлая днём и почти чернильная вечером, особенно когда она не включала свет. Стол стоял прямо напротив окна, спиной к нему. По обеим боковым стенам – книги, тома на латыни, кириллице, французском, немецком и других языках. Некоторые из них стоили состояния. Некоторые – вообще не имели цены.
Алтарь был справа от двери, у дальней стены – не кричащий, не показной. Ни викканских кругов, ни славянских идолов в лоб. Всё вперемешку, как если бы магию собирали из осколков. Угол, где времени не было.
Мила включила торшер, села на своё кресло с высокой спинкой, включила ноутбук. Экран мягко вспыхнул, заливая комнату теплым светом. Первые уведомления всплывали, словно рыбы со дна старого, глубокого озера.
Сообщения. Кто-то предлагал купить дом в Сочи. Кто-то – дачу под Питером. Её агенты знали, что она не звонит – только читает. Её активы росли сами, и недвижимость множилась, как клетки у бессмертного существа. У неё были дома в Калининграде, Казани, Вологде… Но ни одного – в Новгороде. Это было её единственное табу.
Дом, в котором она родилась, давно сравняли с землёй. А с землёй той она и говорить не хотела. И все же иногда – особенно осенью – ей снились белые берёзы, чёрная вода и девочка, бегущая по краю леса.
Письма.
«Бабушка умерла, вы ее знали.»
«Ушёл Михаил, тот самый, с пирсингом и веснушками, помните?»
«Алексей перед смертью снова рисовал лес – и вдруг вспомнил вас.»
Они писали всегда. Те, кому она помогла, кого учила, кого лечила – и их дети, и внуки, и даже те, кто знал о ней лишь из сказок в семье. Письма приходили редко, нескладно, иногда с опозданием в десятки лет. Она не всегда помнила имена. Не от равнодушия – память даже у тех, кто живет столетиями, имеет предел. Не всё удержишь. Не всех.
Но каждое письмо – это было прикосновение. Тонкое, прозрачное, как паутина на рассвете. Оно говорило: ты была. Ты – есть. Ты жила, когда они еще не родились. И будешь жить, когда их уже не станет.
Она кивнула – сама себе, прошлому – и закрыла ноутбук.
Ритуал. Неотменяемый.
Она встала и, проходя мимо гостиной, на секунду замедлилась. На стенах – фотографии. Люди из разных эпох, городов, судеб. Старинные черно-белые портреты и глянцевые цифровые снимки. Мужчины и женщины, дети и старики. Все они – те, кто был рядом. Те, кто помогал ей, или кому помогала она.
Мила зашла в кухню, достала из буфета керамическую кружку, заварила чай с липой и медом. Простая привычка, но неуловимо важная. Она вернулась в гостиную, устроилась в кресле у камина с книгой, но не смогла читать. Мысли ускользали. Их занимал он.
Илья.
Он был странный. Не просто умный, не просто остроумный. В нём было что-то… резкое. Необработанное. Он не боялся, как остальные, не стремился понравиться. Он смотрел в глаза – в том числе ей. И видел, возможно, больше, чем следовало.
Но не в этом было дело. Она знала это чувство. Оно всегда было одним и тем же. Такими не рождаются часто. Иногда раз в сто лет.
Она искала их. Не для любви. Для выхода.
Весь мир за окном жил обычной жизнью. А внутри её квартиры, в старом доме со скрипучим паркетом, резной лепниной и фотографиями ушедших эпох, вечность ждала. Тихо, терпеливо, как всегда.
Глава 3
XI век, 1008 год
Белоозеро
Прошло уже почти два года с того дня как бабка померла. Девчушке было тогда всего четырнадцать, теперь – шестнадцать. За это время она повзрослела, замкнулась, научилась быть тише воды. Деревня отдалилась от неё: люди сторонятся, шепчутся, никто больше не гладит по голове, не зовет помочь по хозяйству. Животные боятся, мать – тревожится.
Она чувствует чужую боль, видит чужие сны, слышит мысли, когда не хочет. Сны стали вещими. Когда касается человека – вспыхивают образы. Страшные, сильные, честные. Бабка не предупреждала – силу нельзя показывать. Её нужно прятать, носить внутри, как нож. Да только некому было это рассказать: не просила она силы этой и совладать как не знала.
На третий год после смерти бабки, однажды вечером, к дому пришли женщины. Соседки. Молча стояли у порога. Мать все поняла сразу. Ночью, не говоря лишнего, собрала дочери узел. Тёплая одежда, сухари, пояс, письмо. И слезы, которых она не показала.
На рассвете девочка шла по утоптанному снегу к тракту. Мать провожала до изгороди, не обняла, не поцеловала. Но смотрела так, что в той тишине было всё: любовь, страх, прощание.
Письмо было адресовано Глебу – старому другу её погибшего мужа, человека при дворе новгородского посадника. Умный, влиятельный, при деле. Не побоялся принять. Мать сказала: говори, что тебе тринадцать. Ты худая, невысокая, сойдёт. А Глеб устроит. Там – по-другому. В Новгороде все по-другому: и жизнь, и люди.
В Новгороде началась новая жизнь. Прежнее имя осталось в Белоозере. Здесь её звали Анной – племянницей Глеба, знатного человека при посаднике. Так было проще и безопаснее. Девушку поселили в доме, выдали новую одежду, стали обучать грамоте, церковным обычаям и дворянским манерам. Глеб нанял женщину из боярской семьи, чтобы та следила за её воспитанием.
Через пару лет Анна ничем не отличалась от остальных юных барышень при дворе: носила тонкие шерстяные платья, ходила в церковь, училась молчать, когда надо, и улыбаться, когда велено. Она ходила на смотрины, участвовала в праздниках, принимала ухаживания молодых людей из хороших семей.
Но в ней жила сила – и Глеб знал об этом. Он не боялся. Напротив – использовал. Порой просил Анну заглянуть в сны врага, почувствовать ложь, когда велись переговоры, предугадать шаг, когда шла борьба за влияние. Ей не нравилось, но она была ему обязана. А он умел быть добрым – и страшным. Он оберегал её, как свою.
Со временем начал подыскивать ей мужа: тихого, покладистого, верного, того, кто подчинится ему, а не ей.
Но судьба распорядилась иначе.
В 1010 году в Новгород был назначен новый князь – Ярослав, сын великого князя Владимира. Ему было около 22 лет, и он прибыл в город, чтобы занять новгородский стол.
Что сработало – магия Анны, природное её очарование или интриги Глеба – никто точно не знал. Но именно её, скромную воспитанницу при дворе, князь заметил среди других. Сначала – взглядом. Потом – словом. А вскоре и делом.
Так на девушку с заброшенного берега Белоозера впервые обратил внимание тот, кто через несколько лет станет князем всей Руси – Ярослав, прозванный Мудрым.
XX век, 1990 год.
21 декабря. Ленинград
Людмила вернулась из магазина в полуденной тишине. Снег лежал плотным слоем на крышах, ветках, скамейках. Двор замело почти до колен, воздух был плотный, хрустящий. В пакете – мясо, овощи, банка сгущёнки и мандарины.
На прощальном чаепитии коллеги проводили её в декрет с добрыми словами и нехитрыми подарками: домашними варежками, вязаной шапочкой и теплым пледом. Кто-то сказал, что у неё «будет мальчик, настоящий герой». Она тогда только улыбалась – не из суеверия, а потому что ещё не верила, что это всё на самом деле.
Поднявшись на четвёртый этаж, сняв пальто и ботинки, она разложила продукты на кухонном столе. Хотела приготовить борщ, пожарить котлеты и поставить тесто на пирожки. Всё сделать заранее. Успеть до родов. Вода уже закипала, мясо ждало разделки, на доске лежал натертый лук – и вдруг…
На полу под ней образовалась теплая лужа. Она замерла, вслушиваясь в себя. Внутри – движение, а потом резкая тишина. Влажные следы вели в коридор. Людмила тяжело опустилась на стул, схватилась за живот.
Телефонный диск дрожал в пальцах. Она вызвала скорую, проговаривая адрес по слогам. Когда положила трубку, поняла, что в квартире все еще тихо – мужа не было. Он должен был вернуться с работы к шести. А сейчас ещё и не доберется вовремя. Она поедет одна.
Снегопад, начавшийся три дня назад, стал почти стихийным бедствием. Скорая не смогла подъехать к дому – машину занесло во дворе, и водитель побоялся рисковать. Через несколько минут в дверь позвонил фельдшер. Людмила, согнувшись от боли, открыла.
– Не смогли проехать, – сказал он, глядя на неё с тревогой. – Поможете нам немного?
Она надела пальто прямо поверх домашнего платья, обулась, взяла сумку и начала спускаться. Каждый пролёт – усиливающаяся боль. Лестница качалась под ногами, в глазах темнело. На улице она прижалась к стене дома, отдышалась, потом пошла. До машины было не больше сотни метров, но преодолеть это расстояние оказалось трудно. Ноги налились тяжестью, живот тянул вниз. Ребенок внутри не шевелился.
Фельдшер поддержал ее под локоть и помог усесться в машину, укрывая одеялом.
– Всё хорошо, доедем, – повторял он, словно заклинание.
Но в приемном покое ждали долго. Потом каталка, осмотр, и наконец – палата. Схватки стали частыми, переходящими одна в другую. В голове не оставалось мыслей. Только движения, боль, усилия.
Когда всё закончилось, она уснула. Без снов, без чувств.
22 декабря. Утро.
Палата была тёмной, только в окне медленно светлело. Медсестра принесла младенца, завернутого в пеленку. Маленький, с красноватым лицом, тёмными волосами, крепким подбородком и широкими ладошками. Он спал спокойно, его дыхание было ровным и уверенным.
Позже в палату пришли муж, мать и отец. Они молчали, смотрели на ребёнка, улыбались, переглядывались. Людмила держала сына на руках, словно защищала его от всего мира. Он был живым доказательством того, что всё получилось. Всё вышло. Он здесь.
И хотя в семье Стрелковых никогда не говорили о вере, не ставили свечей и не молились, никто не возражал, когда она предложила имя – Илья. Потому что после этой дороги, через боль, тревогу и снег, ребёнок стал её личным чудом. Подарком, который приходит не просто так.
Глава 4
XXI век, 19 октября 2018 года
Москва, ул. Знаменка
Утро выдалось ясным и тихим. Солнце, не яркое, но уже пробивающееся сквозь легкую облачность, скользило по белой лепнине потолка в квартире Милы на Знаменке. Она медленно проснулась, откинула одеяло, по привычке несколько секунд лежала, глядя в окно, на силуэты домов, потом встала, босыми ногами коснулась паркета и направилась в душ.
Вода была горячей, почти обжигающей – такой, какую она любила. Она вытерлась, накинула халат и прошла на кухню. Уютный запах кофе начал наполнять пространство. Сделав себе кашу, она достала из холодильник яблоко и начала его резать. Именно в этот момент раздался звонок.
Мила поморщилась. Звонки всегда её раздражали – в них было что-то грубое, вторгающееся. Ещё в девяностых, когда отключила домашний телефон, она ощущала почти телесное облегчение: как будто шум, на который никто не соглашался, вдруг прекратился. Сейчас, в эру смартфонов, звонки случались реже, но от того не стали приятнее.
На экране светилось имя Марины.
– Доброе утро, колдунья, – прозвучал веселый голос. – Проснулась уже?
– Привет, – Мила улыбнулась. – Проснулась. Ты-то чего с утра пораньше?
– С утра? Милочка, уже почти девять. Ты что, опять до ночи с книжками?
– Есть такое, – отозвалась Мила, продолжая резать яблоко. – Что случилось?
– Повышение! Меня повысили! Представляешь, меня сделали зам руководителя! Я теперь не просто ведьма, а ведьма с подписью в документах! Сегодня в пабе, в восемь. Только не смей сливаться, как в прошлый раз.
– Не уверена, – протянула Мила, отставляя нож. – У меня работа, потом планировала домой.
– Мил, ну пожалуйста. Ты как бабушка. Мы же ведьмы, чёрт возьми. Сегодня пятница, будет весело. Вика и Наташка тоже будут.
Мила ненадолго замолчала, взвешивая настроение.
– Ладно. Приеду после работы.
– Обожаю тебя. Приходи к восьми.
Путь до библиотеки занял чуть больше пяти минут. Её старая квартира на Знаменке находилась как раз в пределах пешей досягаемости. В Москве стоял необычайно тёплый октябрь, и Мила ловила себя на мысли, что осень меняется. Те октябри, что она помнила – жёсткие, с колючими ветрами и тёмными утрами – отступили, оставив место мягкой, почти европейской погоде. Она шла медленно, слушая шаги по плитке, вдыхая запахи кофеен и мокрого асфальта. В какой-то момент Мила провела ладонью по старинному камню у входа в переулок – по старой привычке. Этот город дышал вместе с ней.
В библиотеке день прошёл спокойно. Официально она занималась комплектованием фонда: отслеживала новинки, обрабатывала поступления, следила за тем, что нужно приобрести. Её должность никогда не вызывала зависти – ни из-за зарплаты, ни из-за перспектив. Но Милу это устраивало. В этом здании хранились книги, которых больше не найти. Рукописи, старые издания, затерянные тома. Здесь, в полумраке читального зала, она могла читать часами, находя строки, которые когда-то сама и писала. Или диктовала.