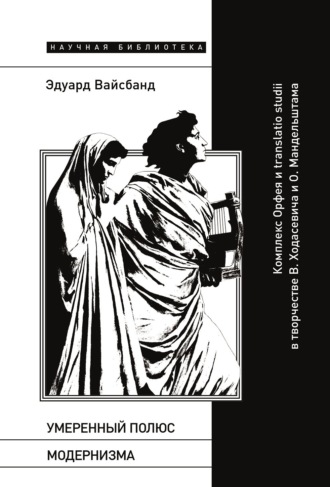
Полная версия
Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама
Род людской состоит из трех, по природе безусловно разделенных, классов: материальных людей, погибающих с сатаной, – душевных праведников, пребывающих навеки в низменном самодовольстве, под властью слепого и ограниченного Демиурга, – и духовных или гностиков, восходящих в сферу абсолютного бытия. Но и эти от природы привилегированные избранники ничего не выигрывают через дело спасения, ибо они входят в божественную плерому не в полноте своего человеческого существа, с душой и телом, а только в своем пневматическом элементе, который и без того принадлежал к высшей сфере.
Наконец, в области практической неизбежным последствием безусловного разделения между божественным и мирским, духовным и плотским являются два противоположные направления, одинаково оправдываемые гностицизмом: если плоть безусловно чужда духу, то нужно или совсем от нее отрешиться, или же предоставить ей полную волю, так как она ни в каком случае не может повредить недоступному для нее пневматическому элементу. Первое из этих направлений – аскетизм – более прилично для людей душевных, а второе – нравственная распущенность – более подобает совершенным гностикам или людям духовным. Впрочем, этот принцип не всеми сектами проводился с полной последовательностью [Соловьев В. 1893: 951].
И. Д. Андреев в своей статье «Гностицизм» особо подчеркивает синкретическую связь раннего христианства, орфизма и гностицизма:
Воббермин полагает, что главные линии гностицизма совпадают с основной структурой орфизма. Исследователь был поражен сходством учения орфиков о Демиурге, о змее и проч. с утверждением гностиков. <…> Если гносис тянулся к христианству, то и христианство имело много оснований интересоваться гносисом. Характерно уже положение Павла. Он говорит о благодатном даре видения. Такое знание дается не всем (I Кор. 8, 7). Им обладают только пневматики-духовные, которые постигают все; но его нет у психиков душевных, которые не понимают духовного (I Кор. II, 14–15). <…> Гносис Павла христианизировал ветхозаветную письменность. Раввины, по его мнению, ничего не понимали в Ветхом Завете. Все там стало ясно только для христиан (2 Кор. III, 14–16). <…> Некоторые исследователи (напр., Гункель) полагают даже, что вся христология Павла сформировалась под воздействием идей гностицизма [Андреев 1913: 825–829].
Такое синкретическое представление о гностицизме и орфизме было характерно для эпохи fin de siècle и, как мы увидим, отразилось в рецепции орфического мифа у Ходасевича. Гностическая антропология, представленная в двух статьях, просматривается и в приведенном отрывке из записной книжки Ходасевича, как и в других его текстах. Несмотря на то что он не пользовался традиционной гностической терминологией, я позволю себе ее применение для экспликации очевидной, по словам Масинг-Делич, «модели мироощущения» Ходасевича.
Нужно сказать, что у Ходасевича, как и у других модернистов, эта гностическая антропология экстраполируется на литературный ряд. Символисты осознавали свое творчество как осуществление задачи пневматиков. Инвариантом пневматического «дела спасения» часто выступала сотериологическая задача Орфея: спасение Эвридики ассоциировалось со спасением плененной Мировой Души в гностицизме. Соответственно, литераторы, которые не ставили себя таких пневматически-сотериологических задач, ассоциировались с низшими гностическими типами психиков и гиликов. Можно предположить, что «натуры слабые, но религиозные» и «совсем слабые, бессознательные» из записной книжки Ходасевича по-своему соотносятся с двумя низшими типами классического разделения – психики и гилики. Так или иначе, для Ходасевича очевидно, что теперь они будут «на поверхности», в то время как пневматики должны будут уйти в катакомбы. Знаменательно, что определение «апаш» в 1910‑е годы часто применялось к Маяковскому (см. «апашество» в вышеприведенном отрывке)26. Как кажется, в известное неприятие Ходасевичем литературного и человеческого облика Маяковского включалось и отношение к нему сквозь призму означенной гностической антропологии.
«Закат христианской Европы» означал закат европейского, христианского искусства, высшим, «предсмертным», расцветом которого воспринимался модернизм. Это переживание заката в позднем модернизме сопровождалось очередным миметическим кризисом, когда художественные приемы и практики предыдущих фаз модернизма начали терять свою художественную убедительность по выявлению и/или художественной презентации имманентной реальности. Позднемодернистская релятивизация установок зрелого модернизма на «фикциональность», эстетическую автономность и саморефлексивное экспериментаторство вела к стиранию границ между художественным, документальным и аналитическим дискурсами и утверждением синкретического/гибридного «человеческого документа» как основной формы художественного выражения27. Референциальность «человеческого документа» одновременно возвращалась к принципам реалистического мимесиса, легитимирующим самовыражение, и служила минус-приемом по отношению к девальвированным амбициям познать «невыразимое» предыдущих этапов модернизма. Критики начинают писать об упадке воображения в современном искусстве, где под воображением – с его романтическими коннотациями – имелась в виду преобразовательная сила модернистского искусства по (вос)созданию имманентного плана бытия (см. [Вейдле 1937], [Ходасевич 1996–1997, 2: 444–448]). С одной стороны, современная публика на Западе переставала интересоваться имманентной реальностью (или интерес к ней находился под запретом в Советском Союзе), удовлетворяясь массовым, низкопробным, поверхностным искусством (или ей навязывался соцреализм как советский вариант массового искусства). С другой стороны, сами модернисты начинали разочаровываться в собственных творческих возможностях по (вос)созданию истинной реальности. Гностики или пневматики, обладающие истинным знанием, ощущали собственную неспособность воскресить душу «падших сих».
В этом отношении характерна «Баллада» Ходасевича 1925 года, где он определяет себя носителем мистического знания, но с болью осознает неспособность осуществить свой «подвиг»: «Мне лиру ангел подает, / Мне мир прозрачен, как стекло, – / А он сейчас разинет рот / Пред идиотствами Шарло» [Ходасевич 1996–1997, 1: 282]. Это неравное противостояние с массовым искусством, или «не-искусством», как Ходасевич определял кинематограф (см. [Там же, 2: 138]), пока не затрагивало, однако, мировоззренческих представлений модернизма о двоемирии и собственном «даре» по выявлению его трансцендентного уровня. «Обнадеживающий» вариант предполагал, как писал Ходасевич в записной книжке, «откладывание» истинных задач искусства на неопределенный срок.
До сих пор еще не выработалось общего понимания того, в каких формах функционировали художественные практики позднего модернизма в Советском Союзе. Это поле непонимания связано как минимум с двумя ключевыми причинами. Во-первых, само исследование позднего русского модернизма находится пока на начальной стадии. Во-вторых, условия бытования позднего модернизма сильно отличались в эмиграции и в Советской России, где модернистская культура подверглась институциональному, идеологическому, эстетическому и часто физическому искоренению. В 1933 году Мандельштам (по сообщению доносчика) говорил: «…теперь вообще понятие лит<ературного> успеха – нонсенс, ибо нет общества» (см. [Нерлер 2010: 30]). Имелось в виду, среди прочего, исчезновение общественно-культурных институтов и ценностных ориентиров, лежащих в основе модернистской социокультурной общности. Фрагментация, маргинализация и исчезновение этого габитуса ставили под сомнение возможность полноценного функционирования культуры модернизма на его позднем этапе в СССР. Можно говорить об отдельных проявлениях позднего модернизма в это время в форме гибридных биохудожественных и/или «дневниковых» практик Кузмина, Вагинова, обэриутов, Олеши, Л. Гинзбург, О. Фрейденберг и других. Но они выживали атомарно, на периферии культурной жизни, не формируя рецептивного поля и элементарных социальных институций, необходимых для существования культурного сообщества. Возможность существования зрелых и поздних модернистских практик с середины 1920‑х годов была детерминирована отношением к модернизму тоталитарного советского государства. Парадоксальным образом гибридные формы позднего модернизма допускали бо́льшую способность к маргинальному выживанию в этих условиях, чем зрелый модернизм с его сознательной установкой на активное утверждение творческих принципов автономности и формального новаторства по отношению к немодернистским культурам. Позднее творчество Мандельштама наиболее ярко показало, как сохранение принципов зрелого модернизма не выдерживало столкновения с доминирующей тоталитарной культурой, пусть даже эта коллизия воспринималась самим поэтом как чистосердечная попытка адаптации единоличника к колхозу28. В этом отношении творческие практики позднего модернизма в эмиграции сравнительно легче определимы в синхронизации с развитием международного модернизма.
Оставляя на будущее более фундированное исследование о формах существования позднего модернизма в СССР, скажем, что творчество Мандельштама до конца его жизни очевидно определялось категориями зрелого модернизма, несмотря на его попытки идеологически приблизиться и интериоризировать сталинскую идеологию с ее антимодернистскими установками. Его попытки ответить в рамках модернистской поэтики на советский идеологический заказ типологически корреспондируют со сходными настроениями и попытками Г. Бенна, У. Б. Йейтса, Э. Паунда и других модернистов, которые в разной степени и с разной продолжительностью симпатизировали тоталитарным режимам в Европе и взаимодействовали с ними. Стихи Мандельштама, которые выражали симпатию тирану и его деятельности29, были прочитаны советскими литературными функционерами (П. Павленко, В. Ставский) негативно не с точки зрения их идеологической направленности, но с точки зрения их формального несоответствия устанавливающимся нормам соцреализма (см. [Гаспаров 1996: 88–89]). Тем не менее объяснение литературно-идеологической позиции Мандельштама в 1920–1930‑х годах складывалось в рамках диссидентского дискурса как противостояние художника и тоталитарной власти. Более нюансированный подход, впервые предложенный М. Л. Гаспаровым, подрывал этот агиографический нарратив, заданный прежде всего воспоминаниями Н. Я. Мандельштам. Гаспаров перенес акцент с противостояния Мандельштама и тоталитарного государства на противоречивость идеологических и эстетических установок самого Мандельштама. Впоследствии наиболее фундированное продолжение это обсуждение нашло в работах Г. Морева (см. [Гаспаров 1996], [Морев 2022], [Токер 2023: 30–40]).
Павленко увидел в поэзии Мандельштама отсутствие подчиненности эстетического элемента идеологическому. «Шаманство» Мандельштама30 утверждало значимость творческого эксперимента и суггестивной неопределенности, стимулирующих рецептивный аппарат читателя. Эти модернистские приемы по приращению смысла подспудно несли опасность двусмысленного прочтения «советских» произведений Мандельштама31. «Перековка» Мандельштама явно не охватила его поэтологический аппарат и, значит, содержала субверсивный потенциал по отношению к сталинской эпистеме. Мандельштам выступал героической и/или наивной фигурой зрелого модерниста, пытавшегося навязать немодернистской и антимодернистской культуре сталинизма модернистские категории и определяющего тирана и его деятельность в модернистских категориях «большого художника».
В 1930‑е годы в СССР спектр жизненных и творческих решений был очень ограничен: отход от литературной деятельности, «дерзкое» и «опасное для жизни» утверждение ценностей зрелого модернизма (позднее творчество Мандельштама), сохранение во внутренней эмиграции позиции зрелого модернизма (Ахматова), маргинализированные формы позднего модернизма (Вагинов, «Ни дня без строчки» Олеши, дневники Кузмина, Гинзбург), попытки перейти на рельсы ангажированной советской литературы (А. Толстой). «Стансы» 1937 года показывают, что Мандельштама какое-то время привлекал последний вариант и он был готов создавать – увлеченно и художественно убедительно – ангажированную «оборонную» поэзию: «И материнская забота / Ее понятна мне – о том, / Чтоб ладилась моя работа / И крепла – на борьбу с врагом» [Мандельштам 2009–2011, 1: 314]. Характерно, что Ахматова, принужденная написать поэтическое восхваление Сталину32, чтобы освободить сына из заключения, впоследствии, по словам М. Кралина, тщательно вымарывала его из своих книг (см. [Ахматова 1990, 2: 326]). «Стансы» Мандельштама воспринимались негативно скорее его окружением и некоторыми исследователями, – но вряд ли им самим.
Мандельштам начал свое поэтическое творчество в русле немодернистской, неонароднической традиции33. Его первые модернистские стихи на рубеже 1900‑х и 1910‑х годов принадлежали ранней стадии модернизма. Затем он стал одним из главных теоретиков и практиков зрелого модернизма. До второй половины 1920‑х годов творчество Ходасевича развивалось по достаточно сходной траектории – от домодернистской «надсонщины» в восемнадцатилетнем возрасте34 и раннего модернизма «Молодости» к зрелому модернизму. К 1930‑м годам их литературные установки перестают совпадать. После периода поэтического молчания Мандельштам в 1930‑е годы приходит к новому этапу поэтического творчества. Его суггестивная, криптическая, экспериментальная форма зрелого модернизма была непонятна не только его советским современникам-соцреалистам, рассматривающим вообще модернизм как художественно и идеологически устарелый и даже враждебный продукт, но и бывшим собратьям Мандельштама по зрелому модернизму начала 1910‑х годов35.
Со второй половины 1920‑х годов, однако, литературный путь Ходасевича более определенно соотносился с поздним модернизмом. Цикл «Европейская ночь» (1927) стал рубежом, на котором утверждались ценности зрелого модернизма в их противостоянии, с одной стороны, раннему модернизму, и с другой – новым «неприятелям», прежде всего современной массовой культуре. В «Европейской ночи» Ходасевич показал, как ценности зрелого, высокого модернизма вполне могут побеждать на «территории врага», будь то «примитивные зрелища» кинематографа и кафешантана, как в «Балладе» (1925) и «Звездах» (1925), или на других социокультурных площадках современной «антидуховной» эпохи. Дальнейший отход Ходасевича от поэтического творчества можно соотнести с новым «миметическим кризисом», выразившимся в сомнении в фикциональности, воображении и в отказе от поэзии как его высшем проявлении.
Как я уже сказал, Ходасевич и его современники осмысляют этот процесс в широкой культурной перспективе как оскудение эры «художественного воображения» и как проявление «заката Европы». Эти рефлексии на тему заката эры художественного творчества и пришедшего ему на смену человеческого документа видятся проявлениями позднего модернизма. Литературно-критическая деятельность Ходасевича в этот период была не менее активна, чем ранее. Его негативное отношение к происходящим социокультурным процессам не означало выхода за рамки модернистской эпистемы, как, например, видится критика модернизма в советских произведениях А. Толстого, О. Форш и М. Шагинян с точки зрения формирующегося советского литературного канона.
Радикальный и умеренный полюса модернизма
Предложенное Л. Ливаком диахроническое описание русского модернизма как смены трех этапов, коррелирующее с историей транснационального модернизма, оставляет без ответа вопрос о разнице модернистских поэтик и практик в синхроническом разрезе. Например, как определить очевидную разницу между творческими принципами Т. С. Элиота и А. Ахматовой, с одной стороны, и Ф. Маринетти и В. Маяковского, с другой, в 1910‑е годы, если все они в этот период принадлежали к зрелому модернизму? Традиционно ответом на этот вопрос было противопоставление модернизма первых и авангарда вторых. Это противопоставление получило наиболее развернутую кодификацию в книге П. Бюргера «Теория авангарда», где автор выдвинул понятие «исторического авангарда»36. По мысли Бюргера, авангардное движение зародилось внутри модернизма, но систематически подрывало его утверждение автономии эстетического опыта (и его институтов) и утверждало ценность трансгрессивных художественных практик. «Исторический авангард», охватывающий период примерно с 1915 по 1925 год, приходит на смену модернизму и вместо идеи автономности искусства выдвигает идею взаимосвязи и взаимоподчиненности искусства и других жизненных практик, прежде всего политики. Бюргер приписывал историческому авангарду более высокий новаторский потенциал по сравнению с модернистскими художественными практиками; и значит, в категориях инновативности или новизны, которые стали основным критерием оценки искусства в эпоху модерна37, авангард приобретал преимущественное значение по сравнению с модернизмом.
Итак, в рамках подхода Бюргера указанные выше авторы должны были распределяться по двум разным категориям – модернизма и исторического авангарда. Действительно, Т. С. Элиот и А. Ахматова руководствовались принципом творческой автономии и утверждали значение литературной традиции, в то время как Маринетти, Маяковский и другие «исторические авангардисты» (в категориях Бюргера) всячески подрывали идею независимости искусства от внеэстетических жизненных практик и стремились подчеркнуть свой полный разрыв с предшествующей литературной традицией.
Однако в подходе Бюргера бросается в глаза искусственность хронологического определения «исторического авангарда» как пришедшего на смену модернизму. В конце концов, Элиот и Ахматова творили в одно время с Маринетти и Маяковским и их творческие достижения хронологически и эстетически никак не предшествовали «историческим авангардистам» и не преодолевались/отменялись ими. В подходе Бюргера оказываются спорными и критерии определения инновативности авангарда по сравнению с модернизмом. «Исторические авангардисты» (а за ними их исследователи) утверждали ключевую установку на подрыв художественной автономии и размывание полей литературы и социальной/политической жизни (трансгрессивность искусства) как более «новаторские», чем модернистское утверждение автономности искусства и его приоритета по отношению к другим жизненным практикам. Но очевидна диалектическая взаимосвязь этих двух тенденций «нового» искусства; и приоритизация одной тенденции за счет другой оставляет ощущение партийности и вкусовщины. В конце концов, «новаторство» – понятие не универсальное или имманентно присущее тому или иному приему как таковому, но осознаваемое лишь в контексте горизонта ожидания конкретного исторического зрителя или читателя.
Действительно, в своем исследовании Л. Ливак показал, что в приоритизации «исторического авангарда» среди других художественных практик этого времени главную роль играли сами участники литературного процесса, нашедшие теоретическую поддержку у солидаризирующихся с ними критиков (см. [Livak 2018: 99–100])38. Подход Бюргера основывался на взглядах русских формалистов, которые продвигали русских авангардистов (футуристов) как наиболее новаторский или «авангардный» сегмент тогдашней литературной и художественной жизни. Такое закрепление за футуризмом значения передового отряда нового искусства было связано и с политическими предпочтениями критиков и историков литературы, симпатизировавших левым движениям и сыгравших ключевую роль в институализации исследований модернизма и авангарда. Левый политический радикализм русских футуристов служил непосредственным подтверждением их эстетического новаторства.
Очевидно, что традиционное двухступенчатое рассмотрение истории «нового» искусства в категориях модернизма и «исторического авангарда» (с утверждением большей инновативности последнего) требует пересмотра. Периодизация «нового» искусства как раннего, зрелого и позднего модернизма снимает приоритетное определение «исторического авангарда» как пришедшего на смену модернизму хронологически и аксиологически. Как справедливо отмечает Ливак, понятие «авангард» или «новаторство» может быть применимо к разным формам модернистского искусства на любом из трех его этапов (см. [Livak 2018: 97]).
Такое лишение «исторического авангарда» приоритетного места в истории «нового» искусства требует по-новому осмыслить указанное различие между художественными предпочтениями Элиота и Ахматовой, с одной стороны, и Маринетти и Маяковского – с другой. В моем исследовании это различие объясняется существованием двух эстетических доминант или полюсов в модернизме на всех его исторических этапах: умеренного и радикального.
Это разграничение базируется прежде всего на сравнительном исследовании европейского и русского модернизма Кристины Пейнтер «Кремень на ярком камне: Революция точности и сдержанности в американском, русском и немецком модернизме»39. Название книги отсылает к стихотворению Х. Д. (Хильды Дулитл) «Морская лилия» (Sea Lily, 1915–1916) в качестве примера умеренного полюса модернизма:
Myrtle-barkis flecked from you,scales are dashedfrom your stem,sand cuts your petal,furrows it with hard edge,like flinton a bright stone [H. D. 1916: 12].Кора миртаиспещрена тобой,вырезаны чешуйкииз стебля твоего,песок срезает твой лепесток,бороздит тебя тяжким плугом,точно кременьна ярком камне (перевод Я. Пробштейна).Исследование Пейнтер посвящено умеренному крылу постсимволистской поэзии, а именно: движениям акмеизма, имажизма и сходным тенденциям в немецкоязычной модернистской поэзии, главным образом на примере зрелого творчества Р.‑М. Рильке. Пейнтер ставит целью скорректировать историко-культурную несправедливость по отношению к умеренному полюсу модернизма со стороны приверженцев радикального полюса. Как в сходном ключе писал Ливак, эта несправедливость заключалась в узурпации новаторского принципа модернизма представителями «исторического авангарда»; а близкие «радикалам» или международному футуристическому движению литературоведы (начиная с формалистов) затем легитимировали эту узурпацию в своих исследованиях. Пейнтер, однако, убедительно доказывает, что принцип новаторства воплощался в разных формах не только в радикальном, но и в умеренном крыле модернизма. По-английски определение tempered modernism несет в себе два значения: «умеренный» и «закаленный». Значение «закаленный» обозначало стремление умеренного модернизма к законченным, совершенным, выдержанным формам искусства. К сожалению, в переводе на русский язык это значение не сохраняется, хотя оно существенно для характеристики умеренного модернизма40.
В критике переписывания истории модернизма в пользу его радикального крыла позиция Пейнтер сходна с ревизией Ливака положений Бюргера об «историческом авангарде». Пейнтер, однако, придерживается традиционного взгляда на историю «нового» искусства, разделяя его на две фазы – символизм и собственно модернизм, или постсимволизм. Такой подход во многом наследует самовосприятию поколения, которое вступило на литературную сцену в начале 1910‑х годов и стремилось утвердить себя в качестве истинных и единственных модернистов, отрицая право предыдущего литературного поколения представлять современное или новое искусство ХX века. В этом отношении характерно высказывание А. Ахматовой:
Несомненно, символизм – явление 19‑го века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20‑го века и не хотели оставаться в предыдущем. Николай Степанович моложе Блока только на 7 лет, но между ними – бездна… [Ахматова 1989: 134].
По решительности, с которой Ахматова «отменяет» поколение символистов, ее высказывание ничуть не менее радикально, чем эпатажные отрицания футуристами своих предшественников41. Очевидно также, что эти отмены зрелыми модернистами предыдущего модернистского поколения имели во многом пропагандистский характер самоутверждения новых движений и не отражали истинную картину, где внешнее, демонстративное отторжение скрывало подспудную – осознанную или неосознанную – преемственность сходных эстетических тенденцией между разными литературными поколениями. В утверждении правоты таких высказываний, как ахматовское, Пейнтер только научно ратифицировала революционное самосознание умеренного крыла зрелого модернизма против раннего модернизма как еще недостаточно модернистского.
Солидаризация Пейнтер с позицией умеренного крыла зрелого модернизма вынуждала ее усилить бунтарский характер акмеизма по отношению к поколению символистов, что ведет иногда к смещению перспективы в требуемом ей направлении. Так, например, она указывает на коренное различие между поэтиками И. Анненского и умеренных модернистов следующего поколения, несмотря на признания последних, что они во многом обязаны ему собственным творческим становлением (см. [Мандельштам 2009–2011, 2: 134]). Пейнтер при этом называет Анненского символистом, хотя, как я указал выше, сам Анненский пользовался другими определениями для новой поэзии, переводы из которой он назвал «Парнасцы и проклятые». Использование термина «символизм», таким образом, приобретает у Пейнтер оценочный характер как менее инновационный по отношению к постсимволизму, и прежде всего его умеренному крылу. В таком оценочном подходе к символизму Пейнтер можно увидеть приоритизацию одного сегмента модернистской культуры – в данном случае (в терминологии «новых» исследований модернизма) умеренного крыла зрелого модернизма.

