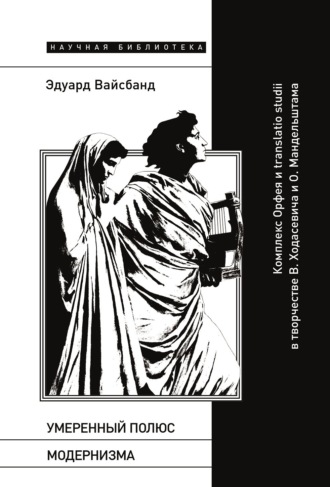
Полная версия
Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама
Приведу несколько примеров, как эти гносеологические задачи «нового/модернистского искусства» нашли выражение в программных текстах раннего русского модернизма. В манифесте «Ключи тайн» (1903) Брюсов прежде всего критиковал современные немодернистские эстетические теории13, где его понимание «нового» искусства во многом наследует взглядам Бодлера, высказанным в серии эссе «Художник современной жизни»14. Брюсов вторит Бодлеру в отрицании «фотографических» задач «реалистического» искусства:
Предоставим воспроизведение действительности фотографии, фонографу – изобретательности техников [Брюсов 1990: 92].
Брюсов, как и Бодлер, пишет об исторической относительности понятия красоты:
Красота не более как отвлечение, как общее понятие, подобное понятию истины, добра и многим другим широким обобщениям человеческой мысли. Красота меняется в веках. Красота различна для разных народов [Там же: 94]15.
Утверждение исторической относительности красоты необходимо было Бодлеру для утверждения значимости «современной красоты», представленной в современном искусстве, в противостоянии требованиям ориентироваться на классику как на вневременный эстетический камертон. Брюсов через несколько литературных поколений после Бодлера выступает уже против современных ему неоклассицистических тенденций, выраженных в теории «чистого искусства». Наконец, Брюсов утверждает истинное назначение искусства:
<…> искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство – то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства – это приотворенные двери в Вечность.
Явления мира, как они открываются нам во вселенной – растянутые в пространстве, текущие во времени, подчиненные закону причинности, – подлежат изучению методами науки, рассудком. Но это изучение, основанное на показаниях наших внешних чувств, дает нам лишь приблизительное знание. Глаз обманывает нас, приписывая свойства солнечного луча цветку, на который мы смотрим. Ухо обманывает нас, считая колебания воздуха свойством звенящего колокольчика. Все наше сознание обманывает нас, перенося свои свойства, условия своей деятельности на внешние предметы. Мы живем среди вечной, исконной лжи. <…>
Но мы не замкнуты безнадежно в этой «голубой тюрьме» – пользуясь образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы – те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину 16 [Брюсов 1990: 100].
Здесь Брюсов переосмысляет известную гносеологическую критику искусства Платоном, выраженную в мифе о пещере17. По Платону, искусство занимается лишь описанием чувственного, то есть «неистинного» мира – искаженного отражения «подлинного» мира идей. По Брюсову, однако, таким «отражением отражения» занимаются «реалистическое» искусство и позитивистская наука, основанные на нашем чувственном восприятии; в то время как «исконная задача искусства» состоит в выходе за эти рамки, чтобы отразить «истинную», «сверхчувственную» реальность. По мысли Брюсова, таким отображением «истинной» реальности бессознательно занималось все «истинное» искусство во все времена. Отличие «нового искусства» заключается в осознании своих истинных задач:
Во все века своего существования, бессознательно, но неизменно, художники выполняли свою миссию: уясняя себе открывавшиеся им тайны, тем самым искали иных, более совершенных способов познания мироздания. <…> Теперь <«новое искусство»> сознательно предается своему высшему и единственному назначению: быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности [Там же: 101].
Такое двухуровневое видение бытия лежит в основе гносеологии и аксиологии модернизма. Новое, или модернистское, искусство становится приоритетной формой познания истинной – трансцендентной или имманентной – реальности.
В уже упомянутой статье Вяч. Иванова «Две стихии в современном символизме» дискредитация «идеалистического символизма» проводится по отношению к обсуждаемому двоемирию. Субъективизм идеалистического течения подспудно сопоставляется с «неистинной» реальностью платоновской пещеры. В то время как «реалистический символизм» способен непосредственно постигнуть истинную, трансцендентную реальность:
Вызвать непосредственное постижение сокровенной жизни сущего снимающим все пелены изображением явного таинства этой жизни – такую задачу ставит себе только реалистический символист, видящий глубочайшую истинную реальность вещей, realia in rebus, и не отказывающий в относительной реальности и всему феноменальному постольку, поскольку оно вмещает реальнейшую действительность, в нем скрытую и им же ознаменованную [Иванов Вяч. 1971–1987, 2: 549].
Разница в задачах искусства между «идеалистом» (по определению Иванова) Брюсовым и «реалистом» Ивановым весьма условна. Оба они вослед Бодлеру стремятся к «непосредственному постижению» «сердцевины» или «сокровенной жизни сущего». Вопрос заключался лишь в определении местоположения этой «сокровенности» и в особой конкуренции – кто более непосредственно способен ее познать. Соответственно, дискредитирующей оценкой были утверждения о том, что «конкурент» и его художественные средства имеют менее непосредственные возможности в ее постижении или ищут ее не там – в собственном воображении, а не в «сокровенной жизни сущего». В раннем модернизме платоновская легенда о пещере и тенях на ее стенах как лишь отражениях истинной реальности служила основным метафорическим фоном для дискредитации «конкурентов». В дальнейшем мы увидим, как Мандельштам и Ходасевич пытались преодолеть такое дискредитирующее определение поэзии вослед Платону.
Если Брюсов использовал фетовскую метафору «голубой тюрьмы», то А. Блок (и некоторые другие ранние модернисты, как мы увидим далее) обратился в статье «Памяти В. Ф. Комиссаржевской» (1910) к образности сказки Андерсена «Снежная королева» для определения двоемирия и задач модернистского/символистского искусства:
Искусства не нового не бывает. Искусства вне символизма в наши дни не существует. Символист есть синоним художника. <…>
У Веры Федоровны Комиссаржевской были глаза и голос художницы. Художник – это тот, для кого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека; тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый <курсив А. Блока> план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не фальшивя.
Насколько же все это просто для художника, настолько же непонятно для обывателя, а что для обывателя непонятно, то для него и недопустимо, то для него и ненавистно.
В. Ф. Комиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз; она не могла не видеть дальше, потому что в ее глазах был кусочек волшебного зеркала, как у мальчика Кая в сказке Андерсена. Оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама [Блок 1960–1963, 5: 418].
В первой редакции статьи «Памяти Врубеля» (1910) Блок вновь обращается к сказке Андерсена для определения задач «нового искусства»:
Я знаю одно: перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают людям раз в столетие, – я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим, и это заставляет нас произносить бледное слово «гениальность». Да, гениальность, – но что это? О чем, о чем – так можно промечтать и промучиться все дни и все ночи – и все дни и все ночи будет налетать глухой ветер из тех миров, доносить до нас обрывки каких-то шопотов и каких-то слов на незнакомом языке, – а мы так и не расслышим главного. Может быть, гениален только тот, кому удалось расслышать сквозь этот ветер целую фразу, из отдельных звуков сложить слово «Вечность» [Там же: 690].
Итак, Блок противопоставляет «первый план мира <…> и то, что скрыто за ним» и, соответственно, «обывателя» и «художника», который способен «расслышать» или «провидеть» «те миры» и «сложить слово „Вечность“», как в сказке Андерсена18.
Нужно сказать, что экзистенциальным коррелятом для этого двухуровневого восприятия бытия было противопоставление быта и истинной реальности. Символист/модернист презирает низменный быт, разоблачает его неистинность, провидит сквозь него истинный план бытия и борется в своем творчестве и жизнетворчестве за преображение быта19.
Эту скрытую/истинную/трансцендентную/метафизическую сущность можно назвать «трансцендентным означаемым» модернизма (см. [Derrida 2005: 354]). Постмодернизм отказался от такой двухуровневой онтологии и связанным с ней пониманием задач искусства. В известной «Таблице различий между модернизмом и постмодернизмом» в книге «Расчленение Орфея: По направлению к постмодернистской литературе» И. Хассан определял этот отказ по двум категориям признаков модернизма и постмодернизма – «корень/глубина» и «ризома/поверхность» [Hassan 1971: 268]. В постмодернизме снимается модернистское противопоставление «внешней коры» и «сердцевины». Онтологическая одномерность постмодернистского бытия находит себе выражение в различных эстетических теориях о «триумфе поверхности и чистой объективации над глубиной желания» [Baudrillard 1988: 6]. Таким образом, например, К. Морару недавно попытался показать, как постмодернистская «плоская онтология» отразилась в «плоской эстетике» современного американского романа – прежде всего в его обнулении иерархического отношения к материальным объектам в мире [Moraru 2023: ix–xi].
Обычно обращалось внимание на значение миметического кризиса при зарождении модернизма как ключевого катализатора для его размежевания от современных ему немодернистских культур (см. [Эконен 2011: 104–105]). Но миметические кризисы происходили и внутри модернизма, знаменуя его стадиальные изменения. Эти миметические кризисы модернизма отражали в эстетической плоскости его мировоззренческие кризисы, связанные с неосуществлением эсхатологических чаяний на переломе веков (в России эсхатологические предчувствия сохранились вплоть до революции 1905 года) и в эпоху войн и революций 1914–1922 годов. На первом этапе разочарование в своем пророческом статусе внутри модернистского сообщества сопровождалось внешней победой модернизма в конкуренции с немодернистскими культурами. С середины 1900‑х годов наблюдалась массовая кооптация адептов нового искусства из буржуазной и леворадикальный среды. Популяризация идей нового искусства, новой морали и нового религиозного сознания в русском обществе воспринималась как профанация со стороны их раннемодернистских провозвестников. Андрей Белый, например, в статье «На перевале. Х. Вольноотпущенники» (Весы. 1908. № 2) писал об «обозной сволочи» символизма [Белый 2012: 225]20. Наиболее чуткие представители раннего модернизма с негодованием наблюдали, как их эзотерические «прозрения» становились модным набором острых тем для эпигонов.
Разочарование в раннемодернистском или «символистском» искусстве, которое призвано было отразить метафизическую реальность и выработало для этого особый художественный язык, привело к утверждению эстетико-идеологических ценностей зрелого модернизма. Если предметом референции раннего модернизма выступал метафизический план, то в зрелом модернизме он вытесняется имманентным планом, интересом к энергиям самой материи, «фактурности» произведения искусства и поэтическому потенциалу языка. Автономность искусства теперь утверждается не только в борьбе с идеей социального служения искусства, но и в борьбе с раннемодернистским пренебрежением «искусством как таковым» ради его «мистических» задач. Именно в среде зрелого модернизма в качестве его литературоведческой/научной легитимации зарождаются формалистские идеи о суверенной самоценности художественной формы и о литературности как отличительном качестве художественного текста.
Характерно, что представители раннего модернизма часто обвиняли представителей зрелого модернизма в том, что они вернулись к реализму, то есть к домодернистскому искусству. Например, в статье «Новые течения в русской поэзии. Акмеизм» (1913) Брюсов так откликнулся на акмеистический манифест С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» (1913):
На привычном языке такое отношение художника к миру называется не «акмеизмом», а «наивным реализмом», и г. Городецкий, видимо, желает нас вернуть к теориям искусства, имевшим свой успех лет 50 тому назад [Брюсов 1990: 398].
В действительности же отказ от метафизической («символистской») перспективы не вел к отказу от двухуровневого видения бытия и приоритетной роли искусства для познания его скрытого плана. Под влиянием философии жизни Ницше и Бергсона, а также психоанализа Фрейда зрелые модернисты стали искать и находить «истинную» реальность в имманентной плоскости бытия и языка, в человеческом подсознании или в коллективном бессознательном национальной архаики.
Вот как, например, Ж. Кокто в речи о своем фильме «Орфей» (1950) определял – уже ретроспективно – этот переход от трансцендентной к имманентной мотивации творчества:
Тема вдохновения. Надо бы говорить не «вдохновение» [inspiration], а «выдохновение» [expiration], ведь то, что мы называем вдохновением, исходит от нас, рождается из нашей тьмы, а не из тьмы внешней, так сказать, божественной. Ведь именно тогда, когда Орфей отказывается от собственных посланий и начинает принимать послания извне, все начинает портиться. Сообщения, обманувшие его и передаваемые Сежестом, рождены именно Сежестом, а не потусторонним миром [Кокто 2011: 68].
«Наша тьма» как имманентный источник творчества, в отличие от метафизической «тьмы внешней», определяет ключевую характеристику в мировоззренческих предпочтениях зрелого модернизма. Трактовка орфического мифа в пьесе, а затем в фильме Кокто служила, таким образом, выражением мировоззренческой переориентации, осуществленной зрелым модернизмом. Этот пример из речи Кокто предвосхищает обсуждение роли орфического мифа в русском модернизме, где он сходным образом часто кодировал решение историко-литературных задач.
Общий переход от «вертикальной», метафизической парадигмы в раннем модернизме к имманентному пониманию действительности сопровождался и переосмыслением значения истории и традиции. Вместо внеисторического, метафизического источника легитимации поэта в качестве жреца/пророка/мага/демиурга начинает преобладать имманентный характер легитимации творчества в диалоге с историей и праисторией (архаикой). Этот модернистский историзм не стоит, однако, понимать как возвращение к историзму позитивистской науки XIX века. Как показал Х. Уайт, значение Ф. Ницше для исторического сознания рубежа веков заключалось, среди прочего, в его релятивизации исторической истины и в постулировании эстетического, творческого подхода к истории как к полю по отстаиванию собственных «витальных» интересов (см. [White 1973: 332–333]). В этом отношении историзм зрелого модернизма в своем преодолении метафизической раннемодернистской парадигмы и возвращении к реальной истории (и праистории) не отказывался от общей антипозитивистской, «панэстетической» установки модернизма, инспирированной, в частности, ницшеанской идеей преображения действительности (см. [Kalb 2018: 61–62]). Поэтому, например, историко-литературные изыскания модернистов (в том числе и считающихся профессиональными историками литературы) обычно подчиняли позитивистское понимание исторической науки модернистскому преобразующему или «жизнетворческому» началу (см. [Смирнова 2022]). Поэтому кажется не совсем корректным провозглашение историзма как уникальной характеристики акмеизма, пришедшего на смену метаисторизму символистов21. Такое видение воспроизводит логику самоутверждения самих акмеистов в их литературной борьбе против исторических выкладок «мистических символистов» и «узколобых» позитивистов. Очевидно, что историзм Гумилева, Мандельштама и Ахматовой подчинялся модернистским задачам по обнаружению или творческому воссозданию истинной/внутренней реальности того или иного исторического явления и утверждению (собственного) творчества как приоритетной формы для такого обнаружения/воссоздания.
Переориентация с метафизической перспективы на имманентную не затронула идеализации творчества как главной жизненной практики по обнаружению или (вос)созданию «истинной», трансцендентной реальности. В этом раннемодернистские искусство и литература успешно конкурировали с религией, присваивая ее социокультурный статус и культовые атрибуты22. Для зрелых модернистов ключевую роль в легитимации приоритетной роли искусства сыграла философия жизни А. Бергсона (см. [Rusinko 1982а] [Gillies 1996], [Fink 1999]). Творческая интуиция оказывалась более предпочтительной формой постижения «жизненного потока», то есть имманентного уровня бытия, чем наука, философия и даже религия.
Среди зрелых модернистов акмеисты наиболее программно заявили о необходимости разграничить области религии и искусства и усилить автономность искусства от общественно-политического и религиозно-философского ангажирования. Вместе с тем зрелые модернисты выступили против других настроений fin de siècle, присущих ранним модернистам. Одним из проявлений таких настроений было размывание гендерных ролей, наиболее ярко выраженное в раннемодернистском культе андрогина (см. [Григорьева 1996], [Matich 2005: 19–20, 71–77, 172–179]). Контрастное самоощущение зрелых модернистов выразилось в отходе от такой гендерной неопределенности и к возврату к четкому разграничению гендерных ролей. Причем свое эстетическое противостояние зрелые модернисты кодировали в андроцентричных категориях. Противоположные полюсы зрелого модернизма (о которых я скажу далее) объединяло противопоставление собственного – аксиологически предпочтительного – «мужественного» отношения к жизни «женственному» отношению предыдущего поколения модернистов (или «декадентов» и «символистов»). Эта гендерная кодировка соединяла мировоззренческое и стилистическое противостояние. Раннемодернистское стремление к «музыкальности», размыванию жанровых и лексических границ как художественное воплощение размывания онтологических границ23 кодировалось как «женская» поэтика и противопоставлялось четкому, «мужскому» разделению онтологических границ и автономизации границ искусства. Таким образом, модернизм воспроизводил стереотипную андроцентричную оппозицию «мужское (рациональное/индивидуальное) – женское (нерациональное/неиндивидуальное)», где «женское» связывалось с размыванием индивидуальных границ. Эта гендерная парадигма контаминировалась также с центральной для модернизма дихотомией аполлонического и дионисийского начал: «женское» отождествлялось с дионисийским трансиндивидуальным началом24.
Как уже было сказано, кризис эсхатологического сознания ранних модернистов, сопровождавшийся миметическим кризисом, привел к зарождению зрелого модернизма. Эсхатологизм, однако, оставался ключевой характеристикой модернистского миросозерцания (см. [Bethea 1989]). Религиозно-мистические тенденции модернизма – теперь уже в конкретном применении к национальной истории – вновь усилились с началом Первой мировой войны и особенно в связи с революциями 1917 года. Историко-социальные катаклизмы воспринимались как предвестники более значительных эсхатологических изменений – «революции духа»25. Теургическое восприятие творческой деятельности как посильное «призывание» или приближение этих событий вновь актуализировалось для широкого круга модернистов независимо от эстетических и политических предпочтений. Поэма Блока «Двенадцать», «Христос Воскрес» А. Белого, книга Ходасевича «Тяжелая лира», произведения Маяковского, Есенина, Клюева и других модернистов в пореволюционную эпоху были вдохновлены таким видением задач искусства.
Однако обозначенные выше эстетические установки зрелого модернизма очевидным образом преобразовали художественное выражение общемодернистских эсхатологических чаяний в произведениях конца 1910-х – начала 1920‑х годов. Превалирование эстетических задач над общетеоретическими и имманентное видение действительности способствовали более выявленной экспериментальной доминанте художественных произведений, с одной стороны, и с другой – тому, что В. Полонский назвал «экзистенциализацией сакрального, его одомашниванием» [Полонский 2018: 15]. Исследователь здесь не зря пользуется определением, отсылающим к эстетической программой Мандельштама этого времени (см. [Мандельштам 2009–2011, 2: 75, 84]). Именно это опредмечивание сакрального, конкретизированное в домашней «утвари», его имманентизация и историзация представляются характерным отличием эстетического эсхатологизма зрелого модернизма от размытых «предчувствий» и «зорь» раннего модернизма. Это особенно заметно на примере произведений авторов, в чьем творчестве отразились доминирующие эстетико-идеологические черты двух этапов модернизма. Например, эсхатологические чаяния молодого Блока в «Стихах о Прекрасной Даме» находили выражение в отвлеченной пантеистической и мистической образности, наследующей романтической эстетике и романтическому противопоставлению реальности и идеала. Ожидаемый эсхатон в поэме «Двенадцать» и других произведениях этого периода мыслился самообнаружением стихийно-хаотических первооснов бытия, их возмездием цивилизации и обновлением связи человека и мира с сущностными энергиями бытия («стихией») (см. [Минц 1983: 544], [Беренштейн 1998: 81]). В сочетании с установкой зрелого модернизма на творческий эксперимент этот идеологический план вел к принципиальному обновлению художественных средств и плана выражения.
Очередное разочарование в ненаступившем ахнатоне или «духовной революции» после социальных революций 1917 года и неприятие победившего «контрреволюционного» порядка (см. [Хетени 1995]) – будь то в форме нэпа в Советской России или буржуазного (капиталистического) строя на Западе – послужили общей идеологической основой для перехода к этапу позднего модернизма. Этот этап характеризовался разочарованием и критическим переосмыслением идеологически-эстетических основ предыдущих этапов модернизма (см. [Livak 2018: 131–132]). Эсхатон откладывается на неопределенный срок или всячески релятивизируется. В этом отношении характерна предвосхищающая эти настроения запись Ходасевича от 25 июня 1921 года в его «Записной книжке»:
Все <курсив Ходасевича> мы несвоевременны. Будущее – повальное буржуйство, сперва в капитализме, потом в «кооперативно-крестьянском» американизме, в торжестве техники и общедоступной науки, в безверии и проч. Лет в 400 человечество докатится до коммунизма истинного. Тогда начнется духовное возрождение. А до тех пор – Второе Средневековье. Религия и искусство уйдут в подполье, где не всегда сохранят чистоту. Будут сатанинские секты – в религии, эстетизм и эротизм – в искусстве. Натуры слабые, но религиозные или художнические по природе останутся на поверхности. Первые будут создавать новые, компромиссные религии (не сознавая, что кощунствуют), вторые – того же порядка искусство. Совсем слабые, бессознательные, найдут исход для томлений своих в истеризме и самоубийствах (религиозные) или в апашестве (художники). А потом – Ренессанс. А уж за ним – «предсказанное» [Ходасевич 1996–1997, 2: 12–13].
Уход в «подполье» в ожидании отложенной духовной революции («предсказанного») позволял тем не менее сохранить модернистскую аксиологию еще на неопределенное время. Ключевой задачей для позднего модернизма становилось сохранить остатки высокой культуры в «новом средневековье» победившей массовой культуры на Западе и тоталитарной – в Советском Союзе.
«Подполье» Ходасевича в данном контексте перекликается с образностью «ухода в катакомбы» из программного стихотворения В. Брюсова «Грядущие гунны» (1904–1905), применяющего декадентскую образность художественного расцвета накануне цивилизационного упадка к историческому моменту Первой русской революции:
А мы, мудрецы и поэты,Хранители тайны и веры,Унесем зажженные светыВ катакомбы, в пустыни, в пещеры.И что́, под бурей летучей,Под этой грозой разрушений,Сохранит играющий СлучайИз наших заветных творений?Бесследно все сгибнет, быть может,Что ведомо было одним нам,Но вас, кто меня уничтожит,Встречаю приветственным гимном[Брюсов 1973–1975, 1: 433].В записи Ходасевича выражается его гностическое мировидение и своеобразная гностическая антропология. О значении гностической антропологии для русского модернизма писала А. Масинг-Делич в книге «Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе ХX века»: человечество разделялось на три типа – гилики (или соматики), психики (душевные) и пневматики (духовные). В своей книге Масинг-Делич рассматривала гностицизм как модель мироощущения. Поэтому генетические связи между историческим гностицизмом и модернистским неогностицизмом в России для нее были не очень релевантны (см. [Масинг-Делич 2020: 59]). После первого, англоязычного издания ее монографии в 1992 году появились исследования, детализирующие знакомство русских модернистов с гностическим учением (см. [Крохина 2001], [Козырев 2007], [Козырев 2015], [Глухова 2010], [Титаренко 2011]). Здесь укажу лишь на две статьи о гностицизме Вл. Соловьева и И. Д. Андреева в «Энциклопедии» Брокгауза и Ефрона. Предположу, что эти статьи были основным источником модернистов по этому учению. Соловьев упоминает гностическую иерархию человеческих типов, хотя не пользовался традиционными определениями «пневматики», «психики» и «гилики»:

