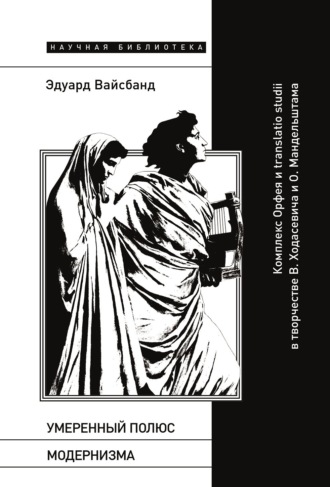
Полная версия
Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама
В этом контексте особое значение приобретает реплика Ходасевича в письме к Берберовой в марте 1936 года: «Сирин мне вдруг надоел (секрет от Адамовича), и рядом с тобой он какой-то поддельный» [Ходасевич 1988: 306]. В этой оценке могла отразиться сиюминутная и общая усталость Ходасевича от принципов зрелого модернизма с его доминантой художественного эксперимента и «литературности», которые Набоков энергично утверждал в своем творчестве и критике и в 1930‑е годы. Эта оценка должна была оставаться «секретом от Адамовича», потому что она ставила Ходасевича по одну сторону баррикад с его записным оппонентом, начинавшим в кругу умеренных представителей зрелого модернизма, но в эмиграции к 1930‑м годам ставшим одним из главных теоретиков позднего модернизма. «Поддельность» Набокова по сравнению с Берберовой – вновь значимый штрих, указывающий на отход Ходасевича от принципов умеренного полюса зрелого модернизма в сторону синкретических подходов позднего модернизма, размывающих границы между литературностью и документальностью.
В заключение обсуждения новых исследований русского модернизма отмечу, что в чем-то сходные попытки ревизии традиционных определений модернизма предприняла в двух своих книгах Л. Панова. В книге «Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте европейского модернизма» (М.: ВШЭ, 2017) исследовательница критиковала комплиментарную рецепцию русского футуризма. Она также выступила против программного утверждения футуристов о том, что их творчество представляло полный разрыв с творчеством их предшественников. Панова показала, что многие инновации авангардистов коренились в предшествующей литературной традиции и, в частности, в инновациях предшествующего поколения русских символистов. Свою критику комплиментарной рецепции авангардистов и их установок на собственную «беспрецедентную гениальность» Панова ограничила только русским материалом, хотя такие явления были характерны не только для России. Пейнтер и Ливак, например, показали, что приоритизация «исторического авангарда» была общей тенденцией в исследованиях модернизма. В книге «Зрелый модернизм: Кузмин, Мандельштам, Ахматова и другие» (М.: Рутения, 2021) Панова, как и Пейнтер до нее, попыталась реабилитировать умеренный полюс зрелого модернизма. Панова, однако, использовала другую литературоведческую номенклатуру, назвав этот полюс общим понятием «зрелый модернизм». В видеопрезентации своей книги Панова объяснила, что решила использовать термин «зрелый модернизм», поскольку другие определения не опирались на готовую идиоматику в русском языке [Панова 2021б]. Возможно, это так. Но выбор литературоведческой номенклатуры по принципу идиоматичности привел к тому, что «зрелый» из нейтрального хронологического определения одного из этапов модернизма стал оценочным определением зрелой или более совершенной идейно-эстетической системы по сравнению с предшествующей ей школой символизма или одновременным ей авангардом. Таким образом, Панова, как и Пейнтер до нее, не переосмысляет концептуальную легитимность «исторического авангарда» Бюргера, но лишь производит оценочную рекалибровку его и модернизма, уменьшая художественную ценность первого и утверждая бо́льшую ценность второго. Такое предпочтение обуславливает определенный исследовательский фокус, который позитивно оценивает только художественные практики, соответствующие критериям умеренного полюса зрелого модернизма. Так, например, стихотворения Хлебникова определяются ею (вслед за А. Жолковским) как «плохопись» именно потому, что не соответствуют вкусовым эталонам умеренного полюса зрелого модернизма (см. [Жолковский 1994: 57–61, 412], [Мильчина 2023: 405–406]). Практики раннего модернизма («символизма») также судятся не сами по себе, но в зависимости от того, прослеживается ли в них «нормативная поэтика» умеренного полюса зрелого модернизма (или «зрелого модернизма», в оценочных категориях Пановой). Такая научная интериоризация умеренного полюса зрелого модернизма парадоксальным образом делает Панову – справедливого критика «солидарных читателей» футуристов – «солидарным читателем» умеренных представителей зрелого модернизма.
Панова, впрочем, делает одно исключение в привилегированном кругу представителей умеренного крыла зрелого модернизма, критикуя А. Ахматову за ее жизнетворчество и ее «солидарных читателей» за создание ахматовского культа (см. [Панова 2021а: 285–350]). Я вижу жизнетворчество как трансгрессивное проявление радикального полюса модернизма на всех его этапах. Умеренные модернисты обычно выступали против жизнетворчества, как и против других радикальных тенденций. Однако и умеренные модернисты зачастую могли перенимать радикальные практики и стратегии и в творчестве, и в жизни. В предложенной схеме на с. 53 это означало флуктуацию литературной позиции в сторону радикального полюса. Но, как я уже сказал, историку модернизма не стоит ретранслировать в своем анализе и оценках солидарную установку одного из сегментов модернизма.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Сопоставление Мандельштама и Ходасевича в связи с их неоклассицистическими тенденциями инициировал еще А. Кушнер в 1991 году на известной конференции «Столетие Мандельштама», см. [Кушнер 1994].
2
Будет преувеличением, однако, говорить о каком-либо консенсусе касательно хронологических границ модернизма. Нижняя граница может сдвигаться до творчества Ш. Бодлера в 1860‑е годы. Верхняя граница еще более подвижна и может охватывать какой-то отрезок послевоенного периода. Я, впрочем, солидарен с теми исследователями, которые ограничивают историю модернизма началом Второй мировой войны (см. [Livak 2018: 27]).
3
Возможно, одним из стимулов для создания собственной системы дифференциации символизма была неудовлетворенность Иванова поколенческим подходом: он был одной из ключевых фигур «младосимволизма», в то время как по возрасту соотносился скорее со старшим поколением символистов.
4
Впрочем, О. Ронен (не совсем убедительно) предлагал выделить и «третью эпоху символизма», или «символистов третьего поколения», к которым относил И. Анненского, В. Шилейко, В. Ходасевича и М. Кузмина, на основе их отношения к «жизнетворчеству»: «Хотя стилизация поведения как защитная реакция не чужда им, подлинное преодоление разрыва между поэзией и жизнью они видят, подобно Анненскому, не в превращении жизни в искусство, а в смерти, сплавляющей биографию и творческое наследие в единую духовную или культурно-историческую ценность и отделяющей истинные сокровища от мнимых» ([Ронен 1992б: 292–293]; см. также [Ронен 2006]). Здесь же упомяну модель описания символизма А. Ханзен-Лёве, которая кажется наиболее детализированной и систематизированной кодификацией и развитием поколенчески-идеологических представлений «младших символистов». В составе символизма выделяются диаволический символизм (CI) и мифопоэтический символизм (CII), которые в общем совпадают с представлениями Вяч. Иванова об «идеалистической» и «реалистической» «стихиях» символизма. На смену CI и CII приходит гротескно-карнавальный символизм (CIII). Эта исходная модель усложняется за счет «диалектического» наличия двух программ – «позитивной» и «негативной» – в каждом «символизме», так что CI может выступать в виде CI/1 (негативная диаволика эстетизма) и CI/2 (позитивная диаволика панэстетизма, «магический символизм»); а CII – в виде CII/1 (позитивная мифопоэзия) и CII/2 (негативная мифопоэзия) [Ханзен-Лёве 1999: 13–15]. Российские исследователи ссылаются на модель Ханзен-Лёве, но идиосинкразическая усложненность и утверждение символизма как зонтичного понятия для нового искусства делает ее уязвимой в поисках общих теоретических оснований русского и зарубежного модернизма.
5
См., например, обсуждение творческих принципов литераторов, объединенных вокруг эмигрантского журнала «Числа» (1930–1934), в монографии Ливака [Livak 2018: 69–70, 110].
6
Так, например, в отдельных работах для этого периода стало использоваться понятие «Бронзовый век» – наряду с достаточно скомпрометированным понятием «Серебряный век» для «новой литературы» 1910–1920‑х годов (см. [Век как сюжет 2023: 326–327]). «Бронзовый век» обычно используется для определения неофициальной литературы второй половины ХX века. Но, как можно предположить, спорность применения понятия «Серебряный век» для постсимволистской/модернистской литературы 1930‑х годов стимулировали попытки дифференциации таксономического словаря, так что Бронзовый век стал определять конец 1920-х – 1930‑е годы, а Железный век – послевоенную литературу. Разумеется, это размножение металлургических определений ведет к классификационной неразберихе.
7
Мое исследование не ставит себе целью обсуждение хронологических границ западного модернизма и, более того, такое обсуждение в применении к национальным модернизмам. Скажу лишь, что «новая» стадиальная хронология русского модернизма в общих чертах следует – с небольшим запаздыванием – за общим развитием западного модернизма.
8
Этому вопросу среди прочего была посвящена организованная мной секция Late Modernism in the Russian Cultural Space: Problems and Approaches на конференции Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), Chicago, 2022.
9
У «младосимволистов» общий модернистский эсхатологизм получил особое звучание под влиянием Вл. Соловьева. Например, Белый писал, что после разговора с Соловьевым в 1900 году он «жил чувством конца, а также ощущением благодати новой последней эпохи благовествующего христианства. Символ „Жены, облеченной в Солнце“ стал для некоторых символом Благой вести о новой эре, соединением земли и неба» [Белый 1922а: 11].
10
Ф. Джеймисон определяет эстетический модернизм как отклик на эпоху модерна или модерности (см. [Jameson 2012: 99]; см. также [Anderson 1988: 318–319], [Calinescu 1993: 2]). Говоря об эпохе модерна/модерности, я опираюсь на известное исследование Ю. Хабермаса «Философский дискурс о модерне», в котором утверждается, что эпоха модерна/модерности возникла в процессе усиления секуляризации и автономизации сфер науки, морали и искусства от религии на протяжении XVIII века, – как бы это утверждение ни было приблизительно и в дальнейшем дополнено и где-то оспорено (см. [Хабермас 2008]).
11
Не раз писалось и об особенности ситуации в России, где в эпоху модерна образовалась также «интеллигентская» культура с собственной системой политических, этических и эстетических ценностей и особым кодексом поведения (см. [Паперно 1996], [Livak 2018: 152–153]).
12
Не путать с омонимическим выражением «миметический кризис» Р. Жерара.
13
Уточню, что определение «немодернистское» искусство (в отличие от «домодернистского») указывает на одновременное существование модернистских и немодернистских эстетических течений в эпоху модерна.
14
Отмечу, что брюсовский обзор современной французской поэзии в книге «Французская поэзия» также свидетельствует о влиянии этих эссе Бодлера на эстетические взгляды Брюсова. О влиянии поэзии Бодлера на Брюсова существует обширная литература; см. прежде всего [Wanner 1996: 82–100]. Мне, однако, не встречалось (развернутых) исследований о влиянии эстетических положений, высказанных Бодлером в эссе «Художник современной жизни», на эстетические взгляды Брюсова, как и на взгляды других русских модернистов.
15
Обратим внимание, что к исторической относительности Брюсов добавляет и культурную относительность понятия красоты.
16
Здесь и далее курсив мой, если не оговорено иное. – Э. В.
17
Об использовании тропа «голубая тюрьма» (из стихотворения «Памяти Н. Я. Данилевского» А. Фета) как варианте «пещерного» мифа Платона в русской предмодернистской и модернистской литературе см. [Ханзен-Лёве 1999: 29, 103–104], [Ханзен-Лёве 2003: 475].
18
О значении «Снежной королевы» для творчества и жизнетворчества Блока см. [Спивак 2010], [Иванова 2012: 33].
19
Двоемирие уже на другом этапе модернизма в 1927 году (в год издания итогового «Сборника стихов») будет определять задачу истинного искусства и для Ходасевича: «Произведение искусства есть преображение мира, попытка пересоздать его, выявив скрытую сущность его явлений такою, какова она открывается художнику» [1927: 50].
20
Позднее на сходные причины кризиса символизма указывал Блок в статье «Без божества, без вдохновенья»: символисты «были окружены толпой эпигонов, пытавшихся спустить на рынке драгоценную утварь и разменять ее на мелкую монету» [Блок 1960–1963, 6: 178].
21
См. известную статью коллектива авторов «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма» [Левин и др., 1974]. В дальнейшем один из ее авторов, Д. Сегал, указал на вненаучные, но идеологические (антисоветские) интенции авторов статьи в стремлении увидеть в акмеизме не только литературные, но мировоззренческие и этические достоинства, представляющие это движение в модусе идеологического противостояния с советской действительностью (см. [Сегал 1996]).
22
Можно вспомнить, как в «библии французского символизма» или раннего модернизма романе Ж. Гюисманса «Наоборот» (1884) дез Эссент переплетает «Цветы зла» Бодлера в «формат требников», представляя эту книгу «требником» новой, декадентской «религии» [Гюисманс 2010: 381].
23
Это размывание лексических и онтологических границ часто выражалось в известной раннемодернистской склонности к составным прилагательным; см., например, раннемодернистский манифест Брюсова «Творчество» (1895): «Фиолетовые руки / На эмалевой стене / Полусонно чертят звуки / В звонко-звучной тишине. // И прозрачные киоски, / В звонко-звучной тишине, / Вырастают, словно блестки, / При лазоревой луне» [Брюсов 1973–1975, 1: 35] и пародию на него Вл. Соловьева «Мандрагоры имманентные / Зашуршали в камышах, / А шершаво-декадентные / Вирши в вянущих ушах» [Соловьев 1974: 165].
24
Такое восприятие дионисизма зафиксировалось в формуле Вяч. Иванова: «Дионис, как известно, – бог женщин по преимуществу» [Иванов Вяч. 1994: 296].
25
В идее «революции духа» выразились милленаристские чаяния, объединявшие представителей разных поколений и разных направлений модернизма. См., напр., статью А. Белого «Революция и культура» (1917): «Революция духа – комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы; <…> Уразумение внутренней связи искусств с революцией в уразумении связи двух образов: упадающей над головою кометы и… неподвижной звезды внутри нас» [Белый 1994: 308]; см. также [Силлов 1921], [Куницын 2022: 198], [Пахомова 2023].
26
См., например, [Садовской 1915: 30], [Харджиев 2006: 200, 287].
27
См., например, реакцию Г. Иванова на рассказ «Мавритания» П. Муратова, напечатанный в журнале «Современные записки» в 1927 году: «Трудно, конечно, переделать самого себя. Но такой умный и тонкий человек, каким не может не быть Муратов, должен был бы понять, что эстетизм 1910 года в 1927 году неуместен по одному тому хотя бы, что им дается дурной, и соблазнительный в своей легкости, пример и так уже окруженному всякими „соблазнами“ и лишенному здоровой почвы, подрастающему в эмиграции литературному поколению. Переделать себя, повторяю, трудно. И Муратов в 1927 году продолжает 1910» [Иванов Г. 1994, 3: 506–507]. Современники Г. Иванова и исследователи эмигрантской литературы считали эту реакцию эпизодом «литературно-политической» войны между двумя центральными эмигрантскими газетами – «Последними новостями», где печатался Г. Иванов, и «Возрождением», куда перешел работать из «Последних новостей» Муратов в 1927 году (см. [Ходасевич 1996–1997, 2: 510]). Вместе с тем «преодоление» (в формулировке В. Жирмунского) эстетизма 1910‑х годов было одним из ключевых принципов позднего модернизма, формирующихся со второй половины 1920‑х годов; см. также [Яковлева 2012].
28
См. начало его «Стансов» 1935 года: «Я не хочу средь юношей тепличных / Разменивать последний грош души, / Но, как в колхоз идет единоличник, / Я в мир вхожу – и люди хороши» [Мандельштам 2009–2011, 1: 201].
29
Имеется в виду, прежде всего, стихотворение «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» (1937) или сталинская «Ода».
30
См. письмо Н. И. Харджиева к Б. М. Эйхенбауму в 1932 году после чтения стихов Мандельштамом в редакции «Литературной газеты»: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжении двух с пол<овиной> часов» (см. [Мандельштам 2009–2010, 3: 822]).
31
И действительно, некоторые исследователи пытались прочесть сталинскую оду Мандельштама как пародию или форму «эзопова языка», скрыто выражающего его антисталинскую позицию; см., напр., примечания П. Нерлера в [Мандельштам 1990, 1: 587–588], см. также [Месс-Бейер 1991].
32
Имеются в виду стихотворения из цикла «Слава миру» – «21 декабря 1949 года» в честь 70-летия Сталина и «И Вождь орлиными очами…» (1950).
33
См. его юношеские стихи 1906 года «Среди лесов, унылых и заброшенных…» и «Тянется лесом дороженька пыльная» [2009–2011, 1: 253–254].
34
См. его стихотворение 1904 года «Зимние сумерки»: «Сумерки снежные. Дали туманные / Крыши гребнями бегут. / Тучки закатные, розово-странные / Цепью волнистой плывут» [2009–2010, 1: 195], см. также [Шубинский 2022: 91].
35
См., напр., утверждение Г. Иванова о том, что он предпочитает раннюю поэзию Мандельштама послереволюционной [Арьев 2017: 264].
36
Бюргер П. Теория авангарда. M.: V-A-C press, 2014. Первое немецкое издание: Bürger P. Theorie der Avantgarde. Suhrkamp, 1974.
37
Этот критерий резюмировал Э. Паунд в своей известной формуле «Сделай это новым» (Make it new) (см. [Pound 1934]).
38
В своих исследованиях русского модернизма Л. Панова для таких критиков использовала понятие «солидарная критика» (см. [Панова 2021а]). Я также позволю себе его использовать в подобных случаях.
39
Painter K. B. Flint on a Bright Stone: A Revolution of Precision and Restraint in American, Russian, and German Modernism. Stanford: Stanford University Press, 2006.
40
Кстати, сами русские модернисты также использовали эпитет «умеренный» для определения своих эстетических предпочтений. В очерке «Андрей Белый» (1938) Б. Зайцев определял как «модернизм умеренного оттенка и не <курсив Б. Зайцева> брюсовского духа» [6: 173] группу молодых литераторов, издававших в 1906–1907 годах журнал «Зори» и газету «Литературно-художественная неделя», в которых участвовал и Ходасевич. «Брюсовский дух» здесь означал декадентские черты раннего модернизма. Сам Ходасевич в статье «Колеблемый треножник» (1921) писал уже об «умеренных» представителях зрелого модернизма, придававших излишнее внимание «стилизации» и «виртуозности» стиха: «…я имею в виду вовсе не футуристов, а представителей гораздо более „умеренных“ литературных групп» [Ходасевич 1996–1997, 2: 83]. Ходасевич также использовал принцип «золотой середины» Горация для определения своих «умеренных» эстетических предпочтений; см. один из его поэтических манифестов – «Стансы» 1919 года, чья декларативность, по-видимому, послужила причиной того, что они не были напечатаны при жизни: «Да! малое, что здесь, во мне, / И взрывчатей, и драгоценней, / Чем всё величье потрясений / В моей пылающей стране. // И шепчет гордо и невинно / Мне про стихи мои мечта, / Что полновесна и чиста / Их „золотая середина“!» [Там же, 1: 329].
41
Характерно, что следующее поколение модернистов уже относило зрелых модернистов к XIX веку: «Хармс сказал: Хлебников – XIX век» (см. [Харджиев 2023: 122]). Вспомним, что по-своему сходным образом Брюсов относил акмеистов к XIX веку. Как мы увидим и далее, немодернистский XIX век служил частой отсылкой для делегитимации модернистами своих соперников вне и внутри модернистского лагеря.
42
С другой стороны, в определении умеренного и радикального полюса модернизма можно увидеть «модернизацию» типологической антитезы двух стилистических типов – линейного/классического и живописного/барочного/романтического, разработанной еще Г. Вёльфлином, О. Вальцелем и В. М. Жирмунским (см. [Вёльфлин 2021], [Вальцель 1928], [Жирмунский 1977: 134–137]). Но если эти авторы писали об исторической модели «смены» стилей, то в модернизме речь идет о сосуществовании, противостоянии и часто взаимовлиянии двух идейно-эстетических систем. Очевидно также, что умеренный полюс модернизма не сводился исключительно к (нео)классицистическим идейным, стилевым и тематическим категориям.
43
См. в статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» (1864): «Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а следственно, Пушкин – роскошь и вздор» [Достоевский 1972–1990, 20: 109].
44
В обзоре русской литературы 1904 года, помещенном в английском журнале Athenaeum, он, среди прочего, писал о первом сборнике Блока: «Прекрасная Дама поэта – это не столько его земная любовь, сколько – мистическая мадонна, „дева радужных ворот“, по терминологии гностиков» (см. [Блок 1980: 489]). О контаминации орфического сюжета и гностической мифологии спасения «падшей» Мировой Души в творчестве и жизнетворчестве Блока см. [Магомедова 1997: 66–67].
45
Здесь характерна указанная ранее критика Вяч. Иванова идеалистического символизма с точки зрения реалистического символизма.
46
О действенности русского футуризма писал М. И. Шапир (он, впрочем, использовал термин «авангард»): «Главным становится действенность искусства – оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенное переживание эстетической формы и содержания» [Шапир 1995: 137].
47
См. хрестоматийное начало романа Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1907–1914), где он «по-символистски» наделяет натуралистическую формулу «кусок жизни» низменными, бытовыми ассоциациями: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном» [Сологуб 2002, 4: 7], см. также [Яковлева 2012: 78].
48
О кружке «аргонавтов», кроме воспоминаний Белого (см., напр., [Белый 1922: 178–183, 224–225], [Белый 1990: 289–328]), см. также исследования А. В. Лаврова [Лавров 1978: 137–170], [Lavrov 1994], [Лавров 1995: 64–148].
49
Имеется в виду выступление Паунда против миметического (репрезентативного) искусства в пользу попытки представить («презентировать») бытие «как таковое»; см. его манифест «Имажизм» [Flint 1913].
50
Сходным образом Б. Я. Бухштаб в статье 1928 года «Поэзия Мандельштама» определял его поэзию после «Камня» как «классическую заумь»: «Заумь – интонационная, очищенная, алгебраизированная интонация, подчеркнутая опустошением в области вещественных связей. Мандельштам нашел возможность быть „классиком“, подойдя в то же время очень близко к футуристическим принципам» [Бухштаб 2000: 266].



