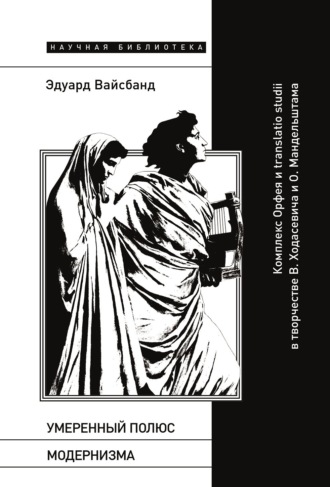
Полная версия
Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама
51
По-видимому, в этом контексте «метафизического имморализма» нужно понимать и название «Нож» (которое Ходасевич собирался дать одному из своих сборников стихов этого периода) в качестве гностически-модернистского переосмысления меча ангела из пушкинского «Пророка». См. также более эксплицитную перекличку с пушкинским «Пророком» в стихотворении «Не верю в красоту земную…» (27 марта 1922), соединяющем гностический и любовный сюжет: «Не верю в красоту земную / И здешней правды не хочу. / И ту, которую целую, / Простому счастью не учу. // По нежной плоти человечьей / Мой нож проводит алый жгут: / Пусть мной целованные плечи / Опять крылами прорастут!» [Ходасевич 1996–1997, 1: 147]. Обратим внимание, что модернистский «пневматик» соединяет в себе ипостаси (нео)романтического «пророка» и гностического «ангела».
52
В этом отношении дополню высказанное ранее замечание (см. с. 45) о том, что в «Европейской ночи» Ходасевич утверждал ценности умеренного полюса зрелого модернизма в их противостоянии не только раннему модернизму и современной массовой культуре, но и радикальному полюсу зрелого модернизма. Последний момент наиболее программно выражен в стихотворении «Жив Бог! Умен, а не заумен…» (1923): «Заумно, может быть, поет / Лишь ангел, Богу предстоящий, – / Да Бога не узревший скот / Мычит заумно и ревет. / А я – не ангел осиянный, / Не лютый змий, не глупый бык. / Люблю из рода в род мне данный / Мой человеческий язык: / Его суровую свободу, Его извилистый закон… / О, если б мой предсмертный стон / Облечь в отчетливую оду!» [Ходасевич 1996–1997, 1: 249]. Это выступление против «заумного» языка М. Цветаева приняла на свой счет и на счет Пастернака (см. [Цветаева 6: 579]). Отмечу также, что окончание этого стихотворения перекликается с другим поэтическим манифестом – стихотворением «Поэту» (1907) Брюсова: «Быть может, всё в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов» [Брюсов: 1973–1975, 1: 417]. Утверждение высшей, автономной ценности поэтического творчества объединяло представителей умеренного полюса раннего и зрелого модернизма.



