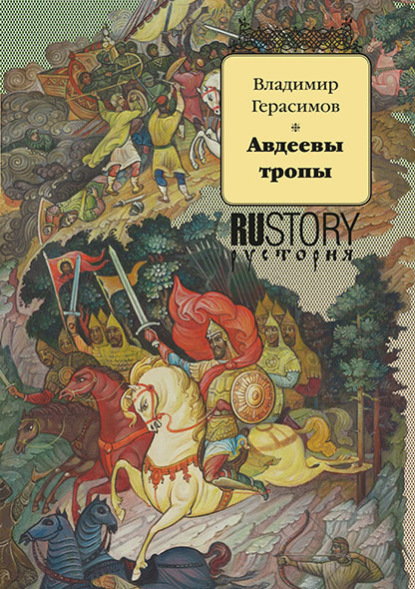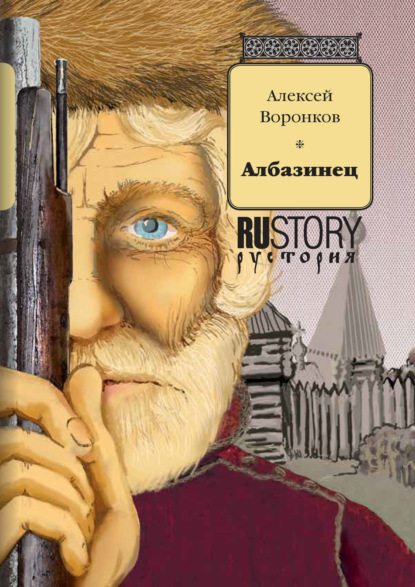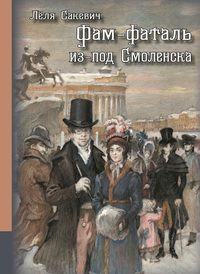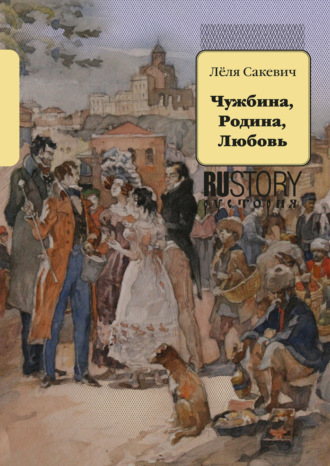
Полная версия
Чужбина. Родина. Любовь
При иностранной коллегии было дозволено иметь двадцать юнкеров четырнадцатого класса[8], а при ее московском архиве – десять особо привилегированных мест. Недолговременная служба в архиве была замечательной площадкой для взлета карьеры любого юного повесы. В Москве было предостаточно знатных семей, желающих занять для своих непутевых отпрысков эти золотые места. Чтобы попасть в сей замкнутый мирок, необходимо было иметь серьезные знакомства и небывалые покровительства. По точному и колкому замечанию одного из таких счастливчиков Сергея Соболевского, служивших в архиве юных кутил начали называть «архивными юношами».
Все здание архива было завалено кипами разобранных и неразобранных старых дел, и лишь три комнаты предназначались для присутствия[9] и канцелярских работников. Работа была несложная: два раза в неделю в течение четырех часов необходимо было переписывать данные из старых таблиц в новые. Для живых и любознательных юношей наискучнейшее занятие. Особенно когда в начальниках архива – старый глухарь Каменский, мрачный и подозрительный, с сухим, как кусок древнего папируса, сморщенным лицом. Его помощником и основным руководителем архивных юношей был Алексей Федорович Малиновский, человек более заинтересованный. В отличие от мумифицированного Каменского, он поощрял поиск интересных документов в массе скучных, их издание и, что самое ценное, их обсуждение.
Именно обсуждения и беседы тянули архивных юношей на службу. Не пыльные бумаги, а философские размышления давали темы для бесед, жарких споров и встреч помимо архива. С греческого языка философия – это любовь к мудрости. Приняв это определение за истину, молодые люди объединились в общество любомудров, где обсуждали немецких философов и собственные, порой вполне недурные, сочинения.
Служба архивных юношей нынче была в полном разгаре: Жан Мальцов, накрывшись свежей «Северной пчелой»[10], сладко посапывал на широком подоконнике – досыпал на работе после шумной ночи. Рядом, расслабленно покачивая ногой, сидел Серж Соболевский. Он хихикал, лениво отрывал от газеты кусочки, комкал их и кидал через всю аудиторию, метко попадая в старательно пишущего юношу, скромно и размеренно выполнявшего работу.
– Митенька! Солнце ты наше! С тебя amande[11], бутылка Аи! Как ты посмел пропустить вчерашнее благородное собрание, что происходило в полицейском участке в третьем часу пополуночи? Наши беседы, коими восхитились бы греческие мудрецы, были достойны всяческих похвал. Услышав оные, ты непременно принял бы нас в лоно истинных любомудров!
Дмитрий Веневитинов поджал тонкие губы, на его милом, почти девичьем лице отразилось обреченное выражение и в то же время раздражение.
– Ты как всегда несносен, Серж! Ведь тебе отлично известно, что нам пришлось распустить общество любомудров в связи с сам знаешь какими событиями. И будь любезен, не мешай, я перевожу прелюбопытный документ.
В ответ полетел очередной комок из новостей «Пчелы».
Вдоль стеллажей с бумагами прошаркало войлочными туфлями глухое привидение – старик Каменский. Юноши притихли, но привидение молча удалилось. Соболевский почесал в затылке:
– Порой мне кажется, что наш Каменский помер лет этак с десяток назад, а то, что мы постоянно здесь видим – лишь его тень… Но вернемся к живым, – бумажный комок вновь полетел через комнату. – Митенька, душа моя, все же зря тебя не было с нами вчера. Ты не видел пришествия музы Мишки Погодина, весьма редкого явления природы.
– Из этой музы, пожалуй, могли бы получиться недурные отбивные, – пробормотал из-под газеты оголодавший Жан. – Я могу снова одолжить у Толстого-Американца его повара. Он волшебник, из любого козла сделает амброзию.
– Звучит заманчиво. Сегодня вечером?..
– Нет, Серж, ты же знаешь, сегодня меня ждет объяснение с дядей. Давай завтра у Погодина?
– Решено. Завтра у Погодина мы обедаем с его музой. Вернее, обедаем его музой. А ты, любезный Митенька, обязан явиться с бутылкой. Ты же мужчина как-никак, не барышня.
– Опять пить, господа? Нет, увольте!
Соболевский, предвидя очередную авантюру, в азарте вскочил.
– Хорошо, не пей, но тогда ты докажешь нам свою мужественность другим путем. Как ты относишься к английскому боксу? Весьма мужественный спорт. Мы тут с Мефистофелем давеча поспорили…
– Неужто?.. – раздался из-под газеты сонный голос.
– Истинно так!
– Ну, как знаешь…
Веневитинов с интересом отодвинул перевод подальше:
– Так о чем все же был спор?
– О том, что ты, Митенька, не сможешь побить Погодина, ибо ты слаб как рыхлая вдова и боишься сломать свои холеные ноготочки об его плебейскую рожу.
– Я не вдова, тем более не рыхлая!..
– Докажешь?..
– Легко! Но и вы, господа, в таком случае сделаете то, о чем я вас попрошу.
Жан с интересом выглянул из-под газеты:
– Условия?.. Любопытно, я согласен, даже не зная, чего ты пожелаешь!
Веневитинов победоносно сложил на груди маленькие ручки:
– Извольте: я побью Мишу Погодина, а за это вы вдвоем будете сопровождать меня на вечере танцев у Зинаиды Александровны.
– Танцы?! Фи! – возмущению Соболевского не было предела. – Нет, я не согласен! Ничего скучнее быть не может!
– Струсили, любезный Серж?.. И кто из нас после этого рыхлая вдова?..
Жан засмеялся:
– Мы пойдем. Да, Серж, не спорь. Если Дмитрий побьет Погодина, что, несомненно, будет подвигом с его стороны, то мы с тобой пойдем на глупый танцевальный раут к княгине Волконской. И не возражай, это приключение может оказаться прелюбопытным. Все, господа, покончим с этим. Пора обедать и я угощаю. Я тут на днях наткнулся на премилый трактирчик на Большой Садовой…
* * *Панкратий Васильевич напряженно кусал старческие губы – его напускная внушительность таяла по мере того, как лицо читающего Жана принимало все более недоуменное выражение.
Отчет по работе Гусевской хрустальной фабрики был недостаточен, информация приводилась урывками, безо всякой системы, цифры доходов заметно преувеличены, а расходов в разы уменьшены. Порой возникало чувство, что управляющий писал документ в дикой спешке или вовсе пытался обмануть хозяина, не задумываясь, что тот прочтет и вникнет в цифры.
Жан снял золотые очки и с претензией взглянул на дядюшкиного помощника. Двумя пальцами брезгливо поднял лист:
– Что это за бессмыслица, Панкрат? Этот отчет писал новый управляющий? Взашей его. Другого ищи, этот лишь обворовывает да нахально врет. Я не верю здесь ни одной цифре.
– Иван Сергеевич, помилуйте, то ж мой свояк!.. Как же его гнать, когда родная душа?..
– Если предлагаешь на такое место родную душу, то должен понимать, что с нее спрос будет, и немалый. Вполне вероятно, что родная душа может оказаться в долговой яме, коли не вернет украденное сразу же. Иди и найди для Гусевской нового управляющего. Две недели тебе.
Медвежий стук в дверь показал, что Ванятко, старавшийся обычно быть деликатным, желал сообщить барину нечто важное.
– Зайди, Ванятко. А ты, Панкрат, поспеши. Мне нужен новый отчет. И желательно правдивый.
Старик вышел, в ярости скрипя зубами и негодуя на молодого повесу, возжелавшего поинтересоваться делами собственной фабрики.
Слуга прошелся по комнате точно огромный айсберг, не заметив, сшиб пару стульев, поспешил неуклюже накинуть на плечи хозяина домашний сюртук, мимоходом опрокинул со стола вазу. От звонкого хрустального звона ни один мускул на лице Ванятки не дрогнул.
– Ваньсергеич, вас того, к барину просють. В кабунет, знамо…
Жан вздохнул – ваза была недешевая.
– Эх, опять поучать жизни будет, седой пень…
– Знамо дело, будуть, – прогудел слуга. – Они ж без ентого никак. Они ж по сыну, что взаграницу уехали, скучають, потому ж и на вас, стало быть, бесюцца.
– Золотые слова, Ванятко. Спасибо тебе, дружище. В этом доме я только тебе и могу довериться. Вот, держи рубль.
– Благодарствуйте, барин. Вы ентих, – он кивнул в сторону вышедшего Панкратия Васильевича, – того, остерегайтеся. Стало быть, не любют вас в ентом доме.
– Ты прав, как всегда прав, Ванятко! Пора съезжать… Ну, я пошел.
Цыган перекрестил Жана, и юноша, сжав зубы и для храбрости взъерошив волосы, поспешил к дяде.
Панкратий Васильевич тенью выскользнул из кабинета Ивана Акимовича, недобро блеснул глазами на Жана и, надменно склонившись, открыл перед ним дверь.
– Извольте. Их благородие скоро будут.
Стараясь не обращать внимания на капризы слуг, молодой человек прошел в кабинет, открыл пошире окно и сел с книгой на подоконник. Вечерний летний воздух проник в затхлую, пыльную комнату. Из сада веяло ароматом жасмина и розами, припомнилась Софи. Жан улыбнулся: недавно сестрица довела тетушку до обморока, попросту послав по-гвардейски одного из «славных юношей», за которых старая карга сватала племянницу.
– Смеешься?.. Полагаешь, что жизнь удалась?.. – раздался за спиной дядин голос.
– Почему бы и нет? Мне многие завидуют.
Иван Акимович, сложив на груди руки и приподняв бровь, с вызовом поглядел на племянника. Дядя был силен. Когда хотел, он умел и мог произвести яркое впечатление. Но так же легко мог показать себя мягким и любящим дядюшкой. Пожалуй, нынче он выбрал именно эту маску.
– Не спорю. Но я занят, потому перейдем сразу к делу, Ваня. Объясни, что на сей раз произошло в твоей светлой голове? Какой из всех чертей ада потянул тебя на эту выходку посреди ночи? Зачем? Тебе не хватает ярких впечатлений? Жаждешь, быть может, заточения? La liberté[12] тебе уж боле не мила? Понятно, героя из себя строишь.
Он налил вина, подал Жану бокал из любимого сервиза, жестом попросил его уподобиться приличному человеку и сесть в кресло.
– Ты, друг мой, отлично осведомлен – мы с твоей тетушкой уже три года делаем для вас все, что можем, и даже больше. И учти – совсем не ропщем, что на шею присели три непутевых племянника. Ведь ваши выходки влекут за собой не только тетины мигрени, но и траты порой весьма ощутимых сумм. Ладно, я преувеличил, среди вас троих есть один не совсем падший ангел – это Сержик, серьезный, умный, послушный мальчик. Хорошо, что сейчас, пока он учится в Дрездене, ты не имеешь на него дурного влияния. Он вырастет достойным юношей. Я был бы горд иметь такого сына как он, если бы, опять же, не его упрямая тяга к книгам. Истинно нездоровая тяга! И это не Соболевский с его глупым собирательством всякой чуши, нашего любителя словесности интересует действительно серьезная наука! Ах, как жаль, с мозгами Сержика мы совершили бы немало интересных négociations[13]… А Софи? Это когда-то милое и очаровательное создание, войдя в возраст, превратилось в язвительную мегеру с острым язычком! Да-да, твой друг выразился очень точно – фурия, да к тому же с василисковым взглядом. Ты знаешь, скольких потенциальных женихов мы потеряли из-за ее нескромности? Бравые гусары смущаются выходок этой незамужней барышни – каково?! Твоя тетя опускает руки: даже она, известная в Москве сваха, бессильна найти твоей непутевой сестрице хорошую партию.
Распаляясь, Иван Акимович нервно забегал из угла в угол, Жан поморщился – эти поучительные беседы, случавшиеся по два раза в месяц, начинали надоедать.
– Я знаю, знаю, откуда в вас троих это беспросветное упрямство! – продолжал Мальцов-старший. – Вы все как отпечатки гравюры копируете моего беспутного братца! Ах, Сережа-Сережа… Земля тебе пухом… Я не ведаю, Ваня, что мне с вами делать… Брат на смертном одре взял с меня клятву воспитать вас, пристроить в жизни, каждому найти партию, но вы сами, слышишь – сами мешаете исполнению желания вашего же отца! Вы сами! – он обличительно ткнул пальцем племяннику в грудь.
Жан вскочил:
– Беспросветное упрямство, говорите? Дядя, дорогой, это упрямство – жажда жизни, которой ни в вас, ни в тетушке никогда не было! Вы слишком постны для этого. Да, мы втроем похожи на отца, и мы гордимся этой схожестью: Сергей Акимович Мальцов умел жить! Умел отдаваться своим интересам полностью, без остатка! Любил лошадей – пожалуйста, несколько табунов и книга о пользе скачек! Любил свои заводы – так он не сидел пнем на двухсотлетнем производстве, не вверялся подлым прохвостам-управляющим, а сам ездил по миру, лично набирался опыта, своими руками вводил новинки, и успешно! Любил мою матушку – и тут отец не мельчил, он жить без нее не смог! Отец вел жизнь яркую, жгучую, как комета, и я… – Жан вздохнул, развел руками. – Эх, я жалок по сравнению с ним… Ему было бы стыдно видеть меня таким, я ничего не достиг, ни к чему не годен, ни до чего мне интереса нет.
Молодой человек прошел по кабинету, взъерошил волосы, затем, решившись, с вызовом глянул на дядю:
– Вы, дядюшка, давеча спросили, зачем я явился в участок, засел в камере, собственноручно лишив себя свободы? Ответ с предысторией. Вы ведь, несомненно, знаете, что произошло неделю назад в столице? Повесили Кондратия Рылеева. Талантливого издателя, любимого всеми поэта. Подло придушили, вздернули, как дрянного воришку. Его и еще четверых мучеников, для которых слово «Отчизна» не было пустым звуком. А Кюхельбекер?! Любимый учитель Сержа Соболевского, повсюду гонимый и презренный? Его навечно кинули в каменный мешок, вы представляете это, дядя? Всю оставшуюся жизнь не видеть солнца? Каково такое для поэта? Сто пятьдесят других героев, не побоявшихся высказать свое мнение, отправятся в Сибирь на каторгу, где сгниют заживо, если прежде не успеют замерзнуть посреди льдов! Как подло, как несправедливо! Вот так у нас обращаются с героями. Что я, жалкий, мог сделать? Прийти в участок и заточить себя самовольно – это самое малое, что я мог совершить в данной ситуации… Чтобы хоть на мгновение осознать, что чувствовали эти герои…
Дядя подлил вина, с улыбкой приобнял Жана.
– А что же пьянка?..
– Фиаско, признаю. Полный провал в моей эскападе: в один прекрасный момент проведать узника явился Серж. А где Соболевский, там не до мрачных дум, увы… Неудачником я оказался даже в этом глупом поступке…
– Ты теперь обязан Сержу. Соболевский тебя, дурачину, спас. Кабы не он со своими цыганами да раскрашенными козлами, квартальный поручик прислушался бы к твоим революционным речам. И не за взяткой бы ко мне помчался, а с радостью доложил бы выше. И тут не спасли бы тебя ни мои деньги, ни твои родственники по материнской линии. Чернышов, знаешь ли, многим из отправленных в Сибирь сродственник.
Горько хохотнув, Иван Акимович сел вместо племянника на подоконник, легко вздохнул и посмотрел в небо.
– А знаешь, мне давеча пару орловских скакунов доставили. Вроде недурные… Не желаешь объездить?..
Жан просиял:
– Вы серьезно?! С радостью, дядюшка!
* * *Большой трехэтажный дом на Тверской светился всеми окнами. Шум богатого приема, взволнованные разговоры, чопорные приветствия и звуки фортепиано отдавались мигренью в голове пожилой дамы. Она вздохнула, кинула в рот миндальное печеньице и, степенно обмахиваясь веером, присела в кресло. Скоро обещала подойти подруга, тогда за пересудами и толками время полетит куда быстрее.
Капитолина Михайловна Мальцова считала себя солидной дамой с огромным влиянием в свете. В свои пятьдесят пять лет она полагала, что добилась собственными силами всего, чего только возможно было пожелать. Будучи в юности известной красавицей, она успела насладиться и любовью признанного поэта, и его показной ревностью. Посвященные ей стихи читались в салонах, их пели в романсах – не об этом ли мечтает каждая женщина[14]?
Яркий брак с Василием Львовичем Пушкиным закончился еще более ярким и скандальным разрывом. Капитолина Михайловна возжелала себе в мужья более молодого и намного более богатого Ивана Акимовича Мальцова. Но повода для развода долго не было, покуда одна крепостная не принесла в подоле. Не воспользоваться таким случаем показалось преступлением. За незначительную сумму блудная девица публично объявила Василия Пушкина отцом ребеночка, и это развязало руки предприимчивой Капитолине. Она провозгласила супруга изменником, заламывая руки и принародно рыдая, развелась. Через месяц, счастливая, выскочила замуж за молодого и богатого промышленника. Незадачливый поэт так и не понял, что же произошло. Много лет прошло с их развода, но он все так же любил свою Капитолину. На вечерах в свете взглядом побитого пса глядел на нее из угла и писал вирши. Его мучила подагра, перо в руке дрожало, да и стихи его уже были не такими как прежде – молодой нахальный племянник, Саша Пушкин, бесспорно обошел дядю на этом поприще.
Кстати, о племянниках – Капитолина Михайловна поджала губы и нервно обмахнулась веером. В своей жизни она добивалась всего, что ставила перед собой целью, но существовало единственное препятствие, неподвластное ее силам. Маленькая сиротка, худенькая девушка, обладательница очаровательной улыбки и огромного наследства, но самого отвратительного на свете нрава – племянница Софи.
Три года назад Капитолина Мальцова пообещала себе, что в кратчайшее время выдаст девицу замуж, и в таком случае трое племянников съедут вон из ее дома. Сережа, единственный достойный мальчик, уже отбыл на учебу в Дрезден, а вот с Ваней и Соней у тетушки возникли проблемы. Жан тоже давно бы убежал, у него имелось достаточно собственных средств, чтобы купить квартиру не только в Москве, но и в столице, но мальчишка не желал оставлять сестру одну у дяди с тетей. У нежно любящих дядюшки и тетушки.
Ах, неблагодарные дети!.. Будто им плохо жилось в ее доме! Будто с ними дурно обращались!..
Капитолина Михайловна нервно обмахнулась веером и вновь положила в рот миндальное печенье – когда, интересно, будут подавать закуски?.. Вечера у Зизи Волконской всегда были на высоте: закуски легкие, но изысканные, общество острословное, но, безусловно, высшее, и постоянно изумительные стихи и музыка.
– Душенька моя! Вот вы где!
К Мальцовой подбежала мадам Грибоедова – безвкусно одетая, перьями в прическе подобная облезлой курице. Она кинулась обниматься и, осыпая все вокруг пудрой, по-старушечьи целоваться. Капитолина Михайловна неискренне улыбнулась:
– Настасья Федоровна, дорогая! Рада, рада! Quel honneur de vous voir dans cette charmante maison![15] Что привело вас сюда?
– То же, что и вас, дорогуша! Святое дело, материнские обязанности. Дочку Марьюшку вывела в свет, глядишь, и приглянется кому… Я видала в картинной галерее Софью, вы, полагаю, тоже пытаетесь женихов искать.
Она придвинулась ближе, обдав неприятным старческим запахом, укоризненно зашептала:
– Душа моя, что ж вы такое творите-то? Как такое возможно, дорогая?
– О чем вы?
– Так я ж все о Софье! Вы, Капочка, похоже, совсем не кормите свою племянницу, впроголодь держите!
– Да как вы?.. Да что же вы?!. С чего вдруг? – Капитолина Михайловна от возмущения стала надуваться.
– Я погляжу, Софи у вас совсем отощала. Одни кости, кожею обтянутые. Глядишь, и хворать начнет, с голода-то. Потому и замуж не берут, видят же, что с таких мощей ничего хорошего не взять!
Мальцова надменно поджала губы:
– Вы помягше, голубушка. С кого еще не взять, так еще вопрос великий. У нашей Софи мать тоже была некрупной. Но у девочки есть куда большее, чем пухлые щечки – огромное наследство. Три фабрики, пять сотен душ да десятин немерено. Ваша-то Машенька, быть может, и посдобнее, да вот у нее, поди, за душой совсем пусто. Не потому ли все в девках ходит, что бесприданница? Но вы не дуйтесь, я ж тоже обидеть не хотела. Мужья, что без средств оставляют – это тяжкая кара для жен старой Москвы… Вы ведь подруга мне, пожалуй что единственная в свете… Я не могу выдать замуж Софью по единой причине: у нее до чрезвычайности вздорный характер, в покойного отца, – Капитолина Михайловна, вспомнив что-то, едва не подпрыгнула. Замялась, залебезила: – Кстати… А что это я все плохо о племяннице говорю?.. Она ж у нас умница. И рисует. И вышивает. И бойкая, и веселая… покуда злиться не начнет… Дорогая моя Настасья Федоровна, я все спросить хотела: что ваш Сашенька? Слышала – оправдали, выпустили. И слава богу, слава богу… Есть справедливость в свете! Натерпелся, несчастный… Ваш Александр Сергеевич человек солидный, умный, со связями, с будущим. Я тут подумала, не свести ли нам вашего Сашу с нашей Софьей?.. Он ведь свою героиню в «Горе от ума» так же назвал. Как в Москву приедет, я непременно приглашу его на ужин, организую для него литературный салон. Племянника позову, тот приведет всех мальчишек с архива. Глядишь, и Софи прилежной станет перед известным драматургом-то.
Пока Мальцова кудахтала, на старушечьем лице мадам Грибоедовой сквозь пудру сменялся цвет от зеленоватого, близкого к обморочному, возмущения до пурпурно-алого стыдливого румянца. При упоминании о сыне Настасья Федоровна пошла пятнами, а когда подруга заговорила о его «Горе от ума», старушка и вовсе вскочила.
– Ах, не упоминайте при мне этого позора! Это «Горе» – мое горе! Скольких достойных людей опорочил мой сын в этой пьесе! Вся старая Москва, которую высмеял этот несносный мальчишка, – это мы с вами, дорогая! Хвала господу, что этот срам до сих пор не напечатали! Ах, Капочка, я давно махнула рукой – пристроить сына мне уже не под силу. Этот закулисный постоялец, пожалуй, так и останется холостяком… У меня в жизни одна надежда осталась, одна молитва – чтобы ему дали достойное назначение да отправили подальше от столиц. В Персию, там он будет на своем месте. Там нет театров, и Саша, глядишь, за ум возьмется. А ежели театр поблизости, то все, промотает последние деньги!
Две кумушки хором вздохнули и с обреченной задумчивостью захрустели печеньем.
Подчиняясь привычной суете великосветского приема, вокруг порхали барышни, кавалеры увивались вслед их шлейфам, нежная фортепианная музыка фоном лилась из дальней залы. Статная хозяйка дома величественно подплыла к старушкам. Ее платье было темно-синим, по цвету очень близким к трауру. Оно невероятно шло Зинаиде Волконской, оттеняло белизну ее плеч и нежность ланит. С дочерней лаской она позвала кумушек к столу с закусками и уверила, что приготовила небывалый сюрприз. Княгиня была ослепительна во всем: очень богата, жизнерадостна, прекрасна внешностью, образованностью и талантами. Вокруг Волконской всегда вились юные повесы, но она отличала и приглашала в свой дом лишь избранных и одаренных. Если Зизи обещала что-то необычное, это непременно сбывалось – будь то известный итальянский тенор Джованни Рубини, польский поэт Мицкевич или венгерский композитор-виртуоз Ференц Лист.
Проводив повздоривших старушек к столу с закусками, Волконская обреченно обернулась – откуда-то из глубины дома послышался громогласный гусарский хохот. В столь приличном обществе подобные трактирные замашки были лишь у пары господ. Безусловно, юных и одаренных, но совершенно беспринципных архивных юношей. Увы, вечер обещал стать загубленным – к ней явились Соболевский с Мальцовым…
– Зинаида Александровна! Божественная! О, как вы бесподобны сегодня!..
Восторженный Дмитрий Веневитинов, не обращая внимания на общество, через всю комнату метнулся к княгине. Восхищенно приложился к ручке, с надеждой вручил букет пармских фиалок. Его щеки пылали, бант шейного платка развязался, правая рука была перевязана байроническим черным платком. Княгиня с жалостью улыбнулась – милый мальчик был безумно влюблен в нее и догадывался, что чувство безответно. Оттого и писал восхитительные стихи. Если бы не его талант, Волконская прекратила бы их встречи, не мучила бы несчастного. Однако подавать надежду на взаимность значило для нее давать русской литературе непревзойденные в своей гениальности творения. Доля Музы всегда тяжела…
Но приличия стоило соблюдать. Зизи решила, что возьмет будущее юного гения в свои руки и найдет ему достойную пару, благо барышень на выданье в ее доме всегда вилось много.
Восторженного поэта было видно издалека. Общество потянулось в гостиную, окружило юношу. В первых рядах переговаривались Погодин, Мальцов с Соболевским и недавно явившийся из столицы издатель Булгарин. У Михаила Погодина на скуле сквозь пудру просвечивал изрядный синяк.
Веневитинов встал в третью позицию, возвел очи к расписному потолку и свежим юношеским голосом продекламировал:
– Что счастье мне? Зачем оно?Не ты ль твердила, что судьбоюОно лишь робким здесь дано,Что счастье с пламенной душоюНельзя в сем мире сочетать,Что для него мне не дышать…Юноша самозабвенно читал, а его друзья, не таясь и не понижая голоса, болтали с Булгариным.
Серж по-братски ткнул издателя в пухлый бок:
– Любезный Фаддей Бенедиктович, а вы, случаем, не знаете, отчего нынче нет танцев? Митенька нас вытащил сюда лишь с этим условием. Скукота, какие-то мухи надоедливо жужжат…
Булгарин захихикал:
– Я слышал, домашний оркестр княгини лишился сразу альта и ведущей скрипки. Поговаривают, на дуэли они проткнули друг друга смычками!
– Вероятно, причина в какой-нибудь миленькой флейточке? – поднял брови Погодин.